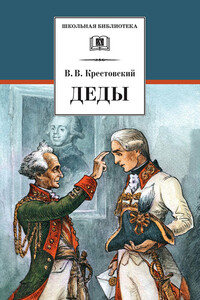Письма к Луцию. Об оружии и эросе | страница 128
Мне было горько: я совершенно очевидно видел это, но видел это только я. Мне было горько-сладостно: я видел это, даже если видел это только я. Кстати, говорят, что отсюда, из Лилибея в ясную погоду виден Карфаген, а какой-то человек, обладающий особо острым зрением, даже подсчитывал выходящие из карфагенской гавани корабли. Я верю в это, хотя ни Карфагена, ни кораблей не вижу, а в детстве видел Африку с берегов Лация.
Увы! «Карфаген должен быть разрушен». Я ненавижу эти слова. О, как понятны мне слезы Сципиона на развалинах Карфагена и твои слезы на развалинах Амиса! Какое смятение вызывала всегда в душе моей участь Трои. Мы, племя Трои, вечно будем переживать ее пожар, а греки — вечно расплачиваться за этот пожар.
Как-то, тоже в детстве, я смотрел одну из драм Ливия Андроника о падении Трои. Когда в час ложной победы на сцене появились вдруг хмельные троянские стражники и запели о «полях, где восходит солнце», о «равнинах Элисийских», я почувствовал, что есть обман блаженства, не-существуемость блаженства. Исчез другой берег моря, тот, «не наш» берег моря, который я назвал Африкой. Слезы хлынули у меня из глаз, я рыдал навзрыд, и грудь моя разрывалась, я чуть не задохнулся от рыданий. Мне было тринадцать лет. После этого я не плакал и никогда больше не заплачу.
И потому мы стараемся убить Троянского коня — ежегодно приносим на Марсовом поле в жертву нашему богу-предку, отцу Ромула и Рема, октябрьского коня, пытаясь удержать кровожадное чудовище истории в его логове.
И еще, один стих запал мне в душу в детстве:
Не знаю, почему, но я забыл, откуда эти стихи… А потом оказалось вдруг, что они тоже связаны с Сицилией.
Почему эти стихи так волновали меня? Не потому ли, что мне никогда не было доступно наслаждение ради наслаждения? Или потому, что для этого мне нужно было забыть обо всем прочем, о всякой скорби, об оружии, которым мы любуемся и которым убиваем, о черепе, который выставляем иногда на пиршественном столе и, если даже не говорим: «Помни о смерти», то все равно помним о ней?
А, может быть, Флавия вызвала у меня отрешение — хотя бы временное — от этой мысли, от этой памяти, и именно поэтому я люблю ее, как жизнь и смерть на одном дыхании, и благодаря ей думаю не о перемене гераклитовской реки, войти в которую можно только однажды, но о ее неиссякаемой жизненной свежести?