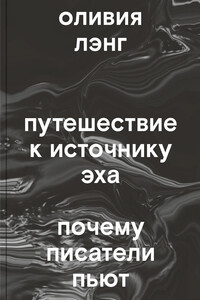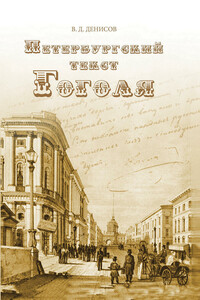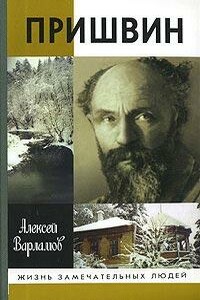Драма и действие. Лекции по теории драмы | страница 71
Такое истолкование природы драматического поступка неизбежно влечет за собой отказ от деления героев на положительных и отрицательных. Гегель так и сделал, ибо увидел драматический поступок как объективно противоречивый. В этом, быть может, даже более, чем во всем ином, выразился гениальный вклад Гегеля в теорию драмы.
Глава III
На современные представления о природе действия и конфликта в драматургии огромное влияние продолжает оказывать теория Гегеля. Мы во многом продолжаем руководствоваться выдвинутыми им принципами, хотя их происхождение уже как будто и не столь очевидно.
В последние десятилетия в связи с процессом преодоления «теории бесконфликтности» и ее последствий наша наука активно обращается к Гегелю, ища у него ответов на актуальные вопросы теории драмы. Это естественно, ибо мысли Гегеля о сущности и назначении искусства драмы относятся к наиболее глубокому из всего, что было когда-нибудь сказано на эту тему.
Но авторы иных работ, минуя гегелевскую концепцию как целое, ссылаются на отдельные его высказывания как на истины абсолютные. Вместе с тем, критикуя определенные гегелевские суждения, [они берут их] изолированно от всего хода его мысли, и потому критика эта не всегда достаточно основательна, убедительна и плодотворна.
Гегель создал законченную концепцию драмы, на которой, при всей ее глубине, лежит все же и печать исторической ограниченности. Его взгляды на драму и драматическое действие тесно связаны с органичным для его философской системы пониманием хода истории и той роли, какую играет в ней действование — разнообразные формы человеческой деятельности.
Историю человека и человечества Гегель не считал этапом в развитии природы — не мог же человек, говорил философ, развиться из животной тупости. Истоки этой истории Гегель находил не в материи, не в природе, не в труде, а в отличающей человека от животного способности мыслить[94]. Этой способностью его наделяет господствующее в мире субстанциональное, духовное начало. Именно дух является внутренним творцом истории, ее субстанцией.
Но этот дух, или — по-другому — разумная идея, существует лишь как некая возможность. Это творческое начало еще вполне абстрактно и безлично. Его потенции воплощаются в действительности благодаря людям, человеческой деятельности. Через нее дух многообразно воплощает, «опредмечивает», «отчуждает» себя: в предметно-чувственных явлениях, в приобретающих все более сложные формы человеческих отношениях и связях, в искусстве, в нравственных, правовых и иных установлениях, в меняющихся государственных формах.