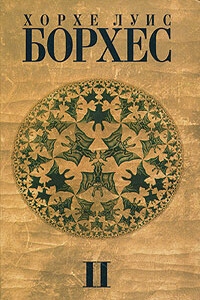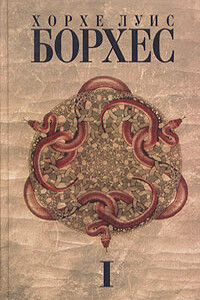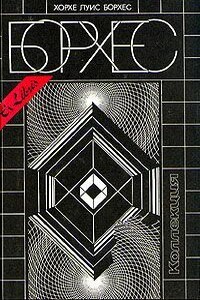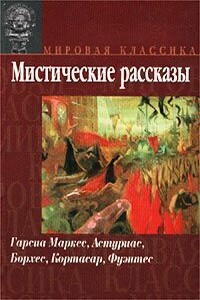Хвала тьме | страница 10
34. Ищи ради счастья искать, но не находить…
39. Врата выбирают входящего. Не человек.
40. Не суди о дереве по плодам, а о человеке по делам, могут быть лучшие и худшие.
41. Ничто не строится на камне, все на песке, но долг человеческий строить, как если бы камнем был песок…
47. Счастлив независтливый бедняк, счастлив незаносчивый богач.
48. Счастливы сильные духом, без страха выбирающие путь, без страха принимающие славу.
49. Счастливы запечатлевшие в памяти слова Вергилия и Христа, коих свет озаряет их дни.
50. Счастливы любящие и любимые и те, кто может обойтись без любви.
51. Счастливы счастливые
Молитва
Перевод Б. Дубина
Тысячи раз на двух с детства родных языках мои губы повторяли и еще многократно повторят слова "Отче наш". Я не всегда понимал их. И сегодня, утром первого июля 1969 года, хочу сложить свою собственную, никем не подаренную молитву. Ясно, что тут нужна прямота, превосходящая человеческие силы. Просьбы, насколько я понимаю, неуместны.
Просить об исцелении от слепоты нелепо: знаю множество зрячих, и это не прибавило им ни счастья, ни справедливости, ни ума. Ход времени — головокружительное переплетение причин и следствий. Просить о любой, самой ничтожной, милости значит просить, чтобы стальная хватка этих силков ослабла, просить, чтобы они порвались. Такой милости не заслужил никто. Не хочу молить, чтобы мои грехи простились: прощение — дело других, а спасти себя могу только я сам. Прощение обеляет жертву, но не виновника: его оно просто не касается. Свобода воли — иллюзия, я понимаю, но ее я могу обрести (или думать, что обрел). Могу обрести смелость, которой никогда не имел, надежду, с которой расстался, силу узнать то, о чем ничего не знаю или только догадываюсь. Хочу остаться в памяти не столько поэтом, сколько другом; пусть кто-то повторит слова Данбара, Фроста или человека, видевшего в ночи кровоточащее древо Распятья, и вспомнит, что впервые услышал их от меня. Остальное — пустяк, забвения ждать недолго. Пути мира неисповедимы, но важно не упускать одно: ясной мыслью и праведным трудом мы помогаем мостить эти, непостижимые для нас, пути.
Хочу умереть раз и навсегда, умереть вместе со своим всегдашним спутником — собственным телом.
His end and his beginning[3]
Перевод Б. Дубина
Агония кончилась, и вот, уже один, осиротевший, растоптанный и отвергнутый, он погрузился в сон. Наутро ждали привычные дела и предметы; он сказал себе, что не стоит так сосредоточиваться на минувшей ночи, и, приободренный решением, без спешки оделся. На службе он сносно исполнял положенное, хотя и с неприятным, утомительным чувством, будто все это уже было. Окружающие, заметил он, отводят глаза; может быть, о его смерти как-то дознались? С темнотой начались кошмары: не запомнилось ничего, кроме страха, что они могут повториться. Страх мало-помалу нарастал. Он закрадывался между ним и страницей, которую собираешься написать, книгой, которую тянешься перелистнуть. Буквы кишели и роились; лица, ненаглядные лица, затягивало туманом; вещи и люди таяли на глазах. Сознание с цепкостью сумасшедшего хваталось за ускользающие тени. Как ни странно, он долго не подозревал, в чем дело. Озарение пришло внезапно. Он понял, что не в силах вспомнить черты, звуки и краски снов, поскольку ни черт, ни красок, ни звуков не существовало и это были не сны. Перед ним была явь — явь по ту сторону безмолвия и зренья, а стало быть — по ту сторону памяти. Это поразило его даже больше самого факта, что после смерти он все еще барахтается в круговороте бессвязных образов. Доносившиеся голоса были отзвуками, лица — масками, пальцы рук — миражом, смутным и, разумеется, бесплотным, но таким знакомым и дорогим.