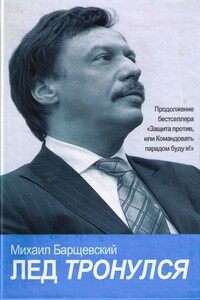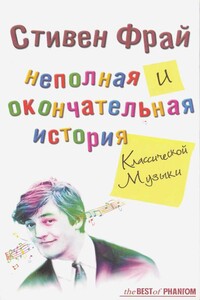Сговор | страница 3
Все это было для Глушкова тайной. Но когда неизвестный поравнялся с ним и прошел мимо, когда стала видна широкая удаляющаяся спина, Глушков со страхом, что сейчас упустит последний шанс, сказал вдогонку, пытаясь все–таки придать голосу развязности: - Попросить можно? — однако получилось вовсе не развязно, а именно жалобно и просительно, испуганно.
Человек, услышав разнесшийся по складу жалобный всхлип, остановился, и Глушков увидел его лицо, на котором промелькнули и растерянность, и любопытство: он еще не увидел солдата, но успел собрать свои чувства в кулак и ответил голосом совсем не растерянным и не любопытным, а скорее непритязательно–равнодушным, в котором сквозила надменность человека, привыкшего вести себя независимо и, может быть, даже вызывающе с людьми любого ранга: - Ну попроси.
Глушков уже проворно выбирался из своего укрытия, хлюпал носом и торопился, торопился выговорить какие–нибудь слова, боясь, что человек не станет ждать его, развернется и уйдет: - Вы извините… Я хотел, спросить хотел… Вы извините. Закурить… У вас закурить… — Хотя он и не курил вовсе и тем более не смог бы закурить сейчас, после нескольких голодных дней.
И Скосов теперь увидел, что к нему спешит высокий тощий солдатик в огромной обвислой на полудетских плечах шинели, в бесформенной кепке, надвинутой до ушей. И казалось чудом, что тело солдатика не подламывалось под тяжестью шинели, которую ему наверняка всучил в обмен на новенькую какой–нибудь готовящийся к отбытию «дембель».
- Закури, конечно, сынок… — неизвестный ухмыльнулся, извлекая из внутреннего кармана мятую пачку «Примы», аккуратно завернутую в полиэтиленовый пакет, чтобы не подмокла от дождя. И когда Глушков неумело обмусолил сигаретку, почувствовав на языке горько–кислые крупинки, неизвестный поднес к его напряженному лицу зажженную яркую спичку. Солдат на мгновение увидел, что толстая шкура на его ладонях была лопнувшей во многих местах до кровоподтеков, словно иссечена битым стеклом.
Глушков пыхнул несколько раз, делая вид, что курит, но не пуская дым в легкие. И неизвестный не заметил притворства, он тоже закуривал — небритые щеки его втянулись от усердной затяжки. Он посмотрел на Глушкова все с той же ухмылкой. Но и под ней, и под внешним его спокойствием, и в его серых глазах как–то сразу угадывался комок нервов, та запредельная взвинченность, которая уже переросла самою себя и застопорилась в этом спокойствии. Он сказал необязательное, лишь бы что сказать: - Жалуйся, сынок.