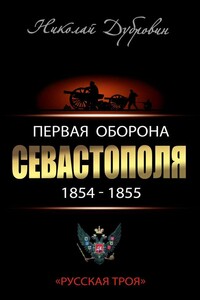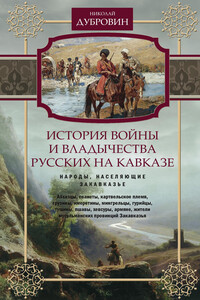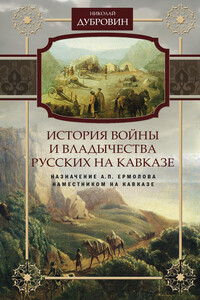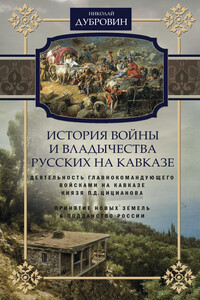Наши мистики-сектанты. Александр Федорович Лабзин и его журнал "Сионский Вестник" | страница 61
— Какие под сим названием вы разумеете? спросил скромно хозяин гостя.
— Например: «Маркиз Глаголь», «Клевеланд», «Железная маска», «Девица Гарви», отвечал посетитель.
— Что делать, отвечал смиренно содержатель типографии, — мы печатаем то, что переводчики нам принесут, а ныне таких книг они к нам не приносят».
При таких условиях издание духовных книг было сопряжено с большою жертвою и убытком, тем более, что их осуждали и никто не читал. Любителям духовного просвещения приходилось выдерживать насмешки, нести издержки на плату переводчикам, на печатание и затем дарить эти книги даже богатым людям, чтобы только приучить их к чтению религиозных сочинений. Упорно преследуя цель, Новиков и его последователи, в том числе и Лабзин, достигли однако же того, что книги духовного содержания стали выходить на русском языке одна за другою. Такое насильственное, так сказать, распространение их произвело некоторый переворот в обществе: явились охотники переводить, явились и читатели, но нельзя было не сознать, что распространение христианских истин производилось все-таки без системы, при помощи издания случайных сочинений. Их читали лишь немногие; большинство же общества или оставалось равнодушным, или злобно подсмеивалось над ними. Молодой писатель Пнин напечатал стихи, в которых подсмеивался над истинами веры, говоря просвещенному своему другу: «Ты не мыслишь, как невежды, будто небо смеживается с землею, как глазам простолюдина кажется; для тебя не нужво, чтобы кто сходил с неба, дабы сделать тебя добродетельным и благополучным».
Старший цензор, Иван Осипович Тимковский, человек религиозный, не пропустил этих стихов, но Пнин жаловался в главное управление училищ, которое, основываясь на §22 тогдашнего цензурного устава, разрешило их напечатать. Будучи давнишним в искренним другом Лабзина, Тимковский рассказал этот случай и тем причинил ему такую боль, «как бы кто поранил его в самое сердце» [204]: Чувство оскорбленного самолюбия, грусть и какое-то уныние овладели Лабзиным.
«До изобретения книгопечатания, — писал он, — одни творения великих умов или особливых гениев разносились в народе и сохранялись в памяти, преданиях и летописях; прочие же редко пользовались сею честию. Тогда писал только тот, кто имел особенные дарования, и тогда книга была плод глубокого размышления и опыта, и была действительно подарком для человечества; чувство и истина были видны на каждом листе ее. Потому-то сии книги пережили веки, несмотря на политические превратности, несмотря на разность обычаев и языков разных народов.