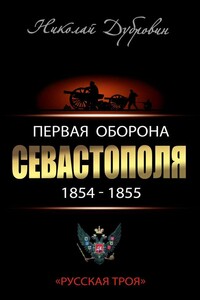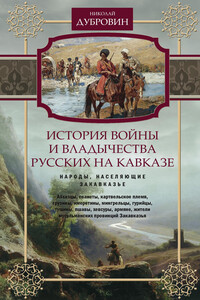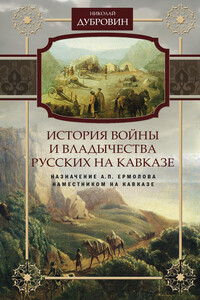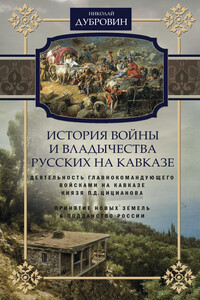Наши мистики-сектанты. Александр Федорович Лабзин и его журнал "Сионский Вестник" | страница 38
Одно наше духовенство могло поставить это созерцание в рамки православия, но, как увидим, оно отличалось бездеятельностью и полной терпимостью ко всем учениям [120]. Терпимость благоразумна, но если она переходит в полное равнодушие, то служит доказательством презрения к собственному исповеданию, всегда гибельного для власти и общества.
«Правда, — писал В.Н.Каразин [121], — есть y нас церкви, так как есть театры, есть и духовенство, яко особливый класс людей. Но все это, признаемся, держится y нас не иначе, как старинный обычай из уважения к предрассудкам черни, — c'est toujours un frein pour le peuple — говорят министры, я разумею европейские вообще, ни мало не указывая ни на чье лицо в России...
«Но в России многие начали думать, будто Святейший Синод для того только существует, чтобы делать определения о скуфьях и разбирать обстоятельства брачных разводов. Впрочем, не могу винить мыслящих таким образом, вспоминая смешные анекдоты, разносимые молвою о делах, которые-де составляют большей частью упражнение сего почтенного места [122]; места, коего назначение есть блюсти над нравственным состоянием сорока миллионов народа, управлять христианским его просвещением или паче воспитанием. Такое попечение, составляющее дожность многочисленного класса людей, непрестанно обращающегося с народом, если бы оно надлежащим образом было управляемо, для благосостояния общества, без сомнения, должно быть действительнее полиции. Просвещение одного ума, или обыкновенное наше, так называемое просвещение, облегчает только способы, надоумляет только уклоняться от строгости законов, изострив между тем страсти и открыв им пространнейшее поле.