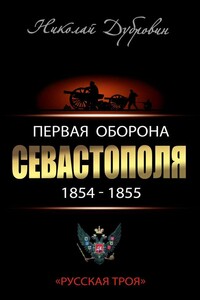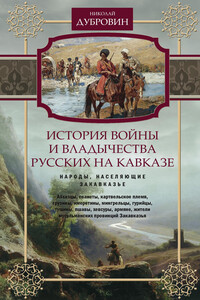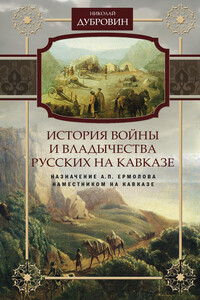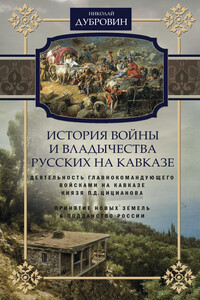Наши мистики-сектанты. Александр Федорович Лабзин и его журнал "Сионский Вестник" | страница 24
В то время хорошее или дурное воспитание было делом случая и прекрасно охарактеризовано стихом Пушкина:
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава Богу,
У нас не мудрено блеснуть.
По словам великого поэта, домашнее воспитание в России было тогда самое недостаточное и самое безнравственное. Домашний быт помещиков в первое двадцатипятилетие нашего века сохранял еще многие черты провинциального дворянства Екатерининского времени. Большая часть дворян состояла из людей мало достаточных, не получивших никакого образования и следовательно не имевших возможности дать его детям. Жившие вечно в деревнях, удаленные от всякого сообщества и почти всегда пренебрегаемые богатыми своими соседями, дворяне эти не только не могли доставить детям своим самых первых начал образования, но и указать им на обязанности благородного человека [68]. Ребенок, говорил A.С.Пушкин, будучи окружен одними холопами, «видит одни гнусные примеры, своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести» [69]. Имея перед глазами примеры злоупотребления господской власти, часто буйства, неумеренности и даже разврата родителей, этот полудикий питомец лесов и степей развивал свои инстинкты и характер в этом направлении.
Как в век Екатерины, так и в начале настоящего столетия дети с ранних лет поручались попечению нянек, на обязанности которых лежало водить их по праздникам в церковь и раза два в неделю возить на поклоны к наиболее почетным и влиятельным родственникам. С семилетнего возраста ребенок поступал на руки дядьки, из крепостных грамотных людей, и его начинали учить. Воспитание ограничивалось, если представлялась к тому возможность, изучением двух или трех иностранных языков и начальным основанием всех наук, преподаваемых каким-нибудь одним нанятым учителем.
Русской грамоте по Псалтирю и Часослову учили крепостные и дьячки, иногда матери, но отцы редко. Науками занимались подъячие и семинаристы высших классов, которые или сами мало знали, или не обладали искусством преподавания. «Науки мысленные, — писал преосвященный Евгений [70], — y нас еще не в моде. Да и обо всех почти науках твердят Иппократово слово: наука — трудное, долгое дело, а жизнь коротка; притом важное дело — случай, а знание — опасная вещь (Ars longa, vita brevis, occasio momentosa, experientia periculosa)».
Известный наш дипломат A.П.Бутенев с грустью вспоминает о том, что дети не получали почти никакого наставления в правилах религии и даже редко учились церковно-славянскому языку. Если бывали исключения, то и они выражались в самой первобытной форме. Братья Тимковские учились церковно-славянскому языку и закону Божию y свойственницы их дяди, монахини Анфисы. После обеда, лежа на постели, Анфиса рассказывала детям библейские повести или «поставя нас рядом, — говорит И.Ф.Тимковский, — велела петь с нею духовные распевы, поводя рукою в такт, пока потом засыпала»