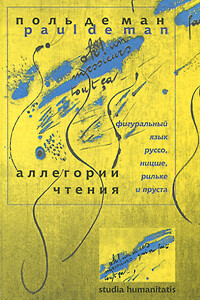Слепота и прозрение | страница 44
Очевидно, что многие свои открытия, касающиеся произведений других авторов, Бланшо совершает благодаря собственному опыту писателя-прозаика[35]. До сих пор его новеллы и recits, в сложности своих лабиринтов, почти неприступны. Все, что нужно сказать о них в статье, посвященной критической работе, это то, что, по счастью, постичь прозу Бланшо с помощью его критики намного проще, чем каким-либо иным кружным путем. Трудность интерпретации этого писателя, одного из наиболее значительных в нашем столетии, состоит, несомненно, в прояснении связи между критической и повествовательной составляющими его работы. Описание движения его критической мысли может дать действенный подход к выполнению этой задачи.
Чтение Мориса Бланшо отличается от других опытов чтения. Прежде всего нас очаровывает прозрачность языка, не допускающего никаких разрывов и никакой несогласованности. Бланшо, таким образом, совершенно ясный, наиболее понятный из писателей: он всегда оказывается на границе невыразимого и обращается к предельной двойственности, но каждый раз распознает в них то, что они есть; поэтому, как и у Канта, горизонт нашего понимания четко очерчен. Когда мы читаем у него о поэтах или романистах, которым случилось стать его темой, мы готовы забыть все, что до сих пор знали об этом писателе. Происходит так не потому что озарения Бланшо вынуждают нас изменить нашу собственную позицию; это отнюдь не обязательно. Обращаясь впоследствии с вопросами к автору, мы обнаруживаем себя в той же самой точке, наше понимание ничуть не обогащено комментариями критика. На самом деле Бланшо никогда не ставит перед собой задачи экзегезы, которая совместила бы ранее полученные знания с новыми разъяснениями. Прозрачность его критических произведений достигается не силами экзегетики; они кажутся ясными не потому, что они все дальше продвигаются в темную и труднодоступную область, но поскольку они отстраняют сам акт постижения. Свет, который они проливают на тексты, иной природы. Ничто, по сути, не может быть темнее природы этого света.
Ведь как понимать процесс чтения, который, по словам Бланшо, располагается «au dela ou en dega de la comprehension» до или вне акта понимания (L'Espace litteraire, p. 205)? Трудность определения этого понятия показывает, насколько оно отлично от нашего обычного восприятия критики. Бланшо в своих критических размышлениях не делится с нами личными признаниями или внутренним опытом, ничем, что обеспечило бы непосредственный доступ к сознанию другого и позволило читателю быть причастным его движению. Какая-то степень внутреннего есть в его работе, и это противопоставляет ее объективному изложению. Но подобная интимность не принадлежит отдельному «я», поскольку его проза не выявляет никакого личного опыта. Язык настолько же мало является языком самоисповедания, насколько и языком экзегетики. Даже в тех статьях, которые явно подчинены задачам литературных обозрений, это все же не язык оценки или мнения. Читая Бланшо, мы не участвуем в акте суждения, или симпатии, или понимания. В результате очарование, которое мы испытываем, сопровождается чувством противодействия, ведущим к противостоянию с чем-то непроницаемым, на что наше сознание не умеет опереться. Двойственность этого чувства, возможно, как-то прояснят высказывания самого Бланшо.