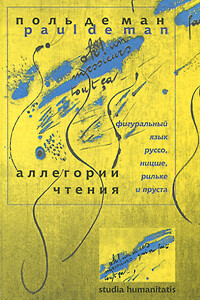Слепота и прозрение | страница 43
Безличность в критике Мориса Бланшо
Послевоенная французская литература была захвачена быстро сменяющими друг друга интеллектуальными течениями, что поддерживало иллюзию плодотворной и продуктивной современности. Перед самой войной пришла мода на Сартра, Камю и гуманистический экзистенциализм, чтобы вскоре смениться экспериментализмом нового театра, обойденным, в свою очередь, новым романом и его эпигонами. Течения эти, по большому счету, поверхностны и эфемерны; следы, которые они оставят в истории французской литературы, тем более незначительны, чем современнее они казались. Нельзя сказать, что наиболее важные литературные фигуры остались равнодушны к этим движениям, некоторые принимали в них участие и испытывали их влияние. Но истинное качество их литературного дарования сказывается в том упорстве, с каким они сохраняли в неприкосновенности самую существенную часть самих себя, именно ту, что оставалась незатронутой превратностями литературного производства, ориентированного на публичное признание — какой бы посвященной и эзотеричной эту публика ни была. Для некоторых, например для Сартра, такое самоутверждение приняло форму отчаянной попытки выполнить твердое внутреннее обязательство в открытой полемике с переменчивыми направлениями. Другие осмотрительно оберегали себя от поверхностных течений, давая себя увлечь волне помедленней и поглубже, единящей их с той непрерывностью, которая связывает сегодняшнюю пишущую Францию с ее прошлым. Когда возможна будет более беспристрастная оценка этого периода, основными представителями современной французской литературы, вероятно, окажутся те, кто сейчас оттенен знаменитостями-однодневками. И никто более не похож на обитателя вершин будущего, чем мало публикуемый и трудный писатель Морис Бланшо.
Но и для модных течений характерно то, что в них постоянно смешивается литературная практика и критическая теория. Сартр и его группа являлись теоретическими представителями собственных стилистических приемов, а родственность структуралистской критики с новым романом трудно не заметить. У Бланшо происходит то же взаимодействие, только более сложное и более проблематичное, между его повествовательной прозой и его критическими статьями. Исключительно приватный писатель, строго при себе удерживающий свои личные задачи, опубликованные статьи которого, литературные или поэтические, весьма немногочисленны, Бланшо известен прежде всего как критик. Немалое число читателей ожидали выхода его статей, часто появлявшихся в форме тематических книжных обзоров в журналах, которые не отличаются эзотеричностью или авангардностью: Journal des debats, Critique и позднее — La nouvelle revue frangaise, где Бланшо ежемесячно помещал краткие эссе. Эти заметки были собраны в нескольких томах (Faux-pas, 1943, La Part du feu, 1949, L'Espace litteraire, 1955, La Livre a venir, 1959), которые продемонстрировали почти одержимую увлеченность Бланшо несколькими фундаментальными темами, что превратило очевидную непохожесть этих статей между собою в непрестанно повторяемое однообразие. Критическая работа получила широкий отклик. Более философская и абстрактная, чем у Шарля дю Бо, и менее настроенная на практическое приложение, чем теории материального воображения Башляра, критика Бланшо осталась в стороне от недавних методологических дебатов и полемики. И уже ощутимому ее влиянию предстоит еще неуклонно расти; в отличие от существующих критических методов, ориентированных на непосредственное действие, его работы ставят под вопрос сами условия, предшествующие выработке критического дискурса, и тем самым достигают такого уровня отчетливости, какой недоступен никому из современных критиков.