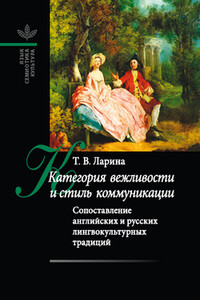Стрела познания. Набросок естественноисторической гносеологии | страница 56
Поэтому знание и понимание могут в какой-то момент разойтись. Лишь на уровне «больших систем» и появляются несоизмеримости.
С другой стороны, видимость «теоретической нагруженности» эмпирии. Дело в том, что предметности мы формулируем (когда рефлексируем) всегда на теоретическом языке, но это язык метатеории, а не теоретический язык в объекте, предметности же не являются рассудочными конструкциями (например, пространство, время, символы, квазивещи и тому подобные), пространство и время суть недедуцируемые (и определением не даваемые) «как» (еще и при непостоянстве отображений, преобразований и непокрываемости области значений областью определений, при «качестве», так сказать, — опять кантовская «не-рассудочная конструкция»!). Просто у эмпирии и теории один источник, из которого они черпают (и он ив том и в другом случае не есть просто мир, а мимезисный артефакт). И тем самым эмпирия и теория различимы лишь в контексте, конкретно, а не абсолютно. Ср. § 26. § 54. Реконструктивный характер («абстрактный», «абстрактные эмпирические объекты») операционально задаваемых состояний наблюдения, разрешающих эмпирически действительно понятия и позволяющих их коммуникацию в тождественных и универсальных условиях, или порожденный (генерированный) характер этих состояний. То есть извне, со стороны исследователя-историка, это реконструктивно, изнутри — генеративно (следовательно, и там, и здесь нет ничего похожего на нейтральную и чистую «данность»). Одно- пространственность только с эксплицитным включением времени (то есть ограниченной возможности изменения наблюдения и его распространения по пространству)[37]. Тем более, что чтобы извлечь Б, приходится так переформулировать (а это — изменение, движение субъекта) субъект, что он не может извлечь А, и, следовательно, и наоборот. Разрешимость и связь с условиями восприятия, в принципе относительные для разных систем отсчета (вернее, пространств), не поддающиеся неограниченному подразделению (то есть выражению до конца в языковых правилах и нормах), содержащие абстрактные свойства эмпирических объектов, реконструируемые или генерируемые и «испытываемые» на основе знаемого, а не видимого (соответственно, наличие нереализованного, неиспытанного, непережитого — потому, что непонятого, то есть неизвлекаемого на основе этого знаемого). И важное — переопределенность или недоопре- деленность этой связи. Физические условия содержат (не содержат) условия применения понятия понимания (см. стр. 312 дисс.).