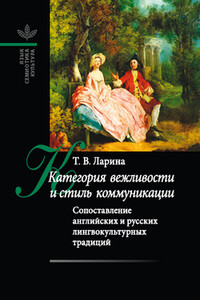Стрела познания. Набросок естественноисторической гносеологии | страница 45
Нет никакой идеи, представляющей благое или истинное, необходимое или пренебрежимое, требуемое или, наоборот, отбрасываемое, заслуживающее веры или нет и так далее, как предмет божественного понимания «до того, как его (Бога — М.) природа конституировалась как таковая определением его воли». Это, несомненно, первая формулировка принципа относительности versus абсолют (третий глаз) и тождество бытия и мышления. Из него вытекает явление самопричинной устойчивости или самоподдержания и, поскольку воссоздание «сделанного» является одновременно элементом циклического космического круговорота (способного выбить космическое включение), — принцип развития.
§ 42. Если нет этой машины (и ее тела), то ничего не будет происходить и структурироваться, в том числе не будет запоминаться, кумулироваться. Но в силу этого же есть нереализованная часть (она и есть и ее нет; ничто не ждет понимания; нет зависимости от последующего решения), что и выливается в разнопространственность и разновременность. Есть пространственно-временные сумки, мешочки с несомкнутым верхом. Реализация означает оставление нереализованного актуализацией в инопространственных и иновременных сумках, пазухах, с содержимым которых нет связи и к которым нет доступа.
Таким образом, исходя из того, что (1) никакими внутренними («внутренними», то есть из самой же теории взятыми и только из нее) средствами физической теории и никаким их продолжением мы не можем придти к событиям «мыслей», «формул», «вкладов» этой же теории, к которым нет непрерывности, что нарушает чистоту всеобщей (не знающей скидок и обстоятельств) логической дискурсии (и обоснования) «внелогическими» (неявными и неконтролируемыми) зависимостями и процессами, которые не «оговариваются» абстракцией логической бесконечности и которые не показывают себя как истина («истина показывает и себя и заблуждение»), исключая тем самым конвенцию (и, следовательно, заставляя предположить, что эти события — объекты в особой действительности[29], и что (2) тем более можно рассматривать теорию как функциональное отправление экспериментального тела, «органа», которое выделяет теоретическую мысль, как печень выделяет желчь, — мы приведены к необходимости феноменологической абстракции и редуцирования (эпохэ) объективаций, через которую нам открылась бы особая действительность, в свете которой усложняющий язык «неявных зависимостей» и «неконтролируемых процессов» имел бы простой логический смысл и получил бы простую онтологию, ставящую все на место (в этой онтологии, скажем, бытие не полно и так далее). Слишком много вспомогательных и дополнительных вещей, варьирующихся от случая к случаю, от места к месту, от группы исследователей к другой, так сказать, ad hoc («неявное знание» и всякие другие пособники гипотез — «телесные» embeddmcnts, «укорененные» — значения которых не вводятся заново теорией на ее собственной основе, укорененные словари-тезаурусы, относительно которых гипотеза сложна или проста и так далее). (Ср. § 44а). Более того, не только «неявное знание» (или «заднефоновое»), но и вообще бесструктурные события (вроде гештальт- переключения), да и вообще незнание (в силу переопределенности). И еще, более того, может не быть независимого evidence.