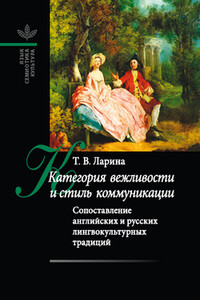Стрела познания. Набросок естественноисторической гносеологии | страница 44
§ 40а. Именно деструкция (мы не просто чего-то не знаем, или узнав, меняем формы, а мы в кризисе, неконтролируемо фонтанируем ирреальные, структурно-проекционные представления); и деструкция потому, что была не абсолютная реальность, не черты мира и предметов «в себе», а структура, с ее допущениями и тому подобное, имевшая проекцию во внешнюю реальность 3-х мерно протяженной плоскости, которая (проекция) вышла теперь из-под контроля внешними воздействиями, свидетельствами (познавательное пространство 3-х прилеганий есть проекционное познавательное пространство, но опытно контролируемое), которые более не интегрируются, интеллектуально не синтезируются, поступая вне какой-либо понятной связи (непоступление вообще — частный случай в экстремуме отсутствия интеллигибельной связи).
§ 41. Необъяснимая устойчивость свободного явления как исторического индивида (организованного и упорядоченного многообразия, тысяч и тысяч единичных актов мысли в разных местах и в разные моменты времени), находящегося в постоянном движении и изменении, необъяснимая согласованность очень длительных и пространственно далеких изменений. Это проблема, если не придерживаться, конечно, абсолютистского и, по сути, чисто менталистского взгляда, объясняющего устойчивость и пребывание по времени обучением и образованием через усвоение (извне) знаков и смыслов, определений, идеальных значений, ценностей и норм, идеальных систем готовых правил — в предположении (скрытом или явном) неконтролируемых и неуловимых духовных актов «нормального» восприятия и чистой мысли, своего рода чуда ассимилятивной транссубстанциации[28]. (Ср. §§ 23, 40, 136 и далее). Но это лишь остатки психологизма (понял, не понял, усвоил, не усвоил, догадался, не догадался, имел способность, не имел способности… — как описывать все эти скрытые качества?!). Иначе как силами (динамически), независимыми от нашего ума и предполагаемых скрытых качеств, нельзя объяснить (в том смысле, что о последних нельзя контролируемо рассуждать; ср. §§ 50, 99, 138 о смене языка описания и «не существовании» ощущений). Но это ни силы объективного строения предмета (кто его видит? а если видит, то это абсолют), ни силы заложенной внутри субъекта «программы», «плана» и тому подобное. И устойчивость является чудом, и пребывание объекта во времени не является само собой разумеющимся.
В основе указанной выше невозможности мышления лежит фундаментальное и простое, Декартом когда-то схваченное, онтологическое обстоятельство: нельзя считать, будто есть идея, предшествующая (по природе) во- левому определению (Бога), — так что «cette idee ait porte Dieu a elire 1'un plutot que I'autre».