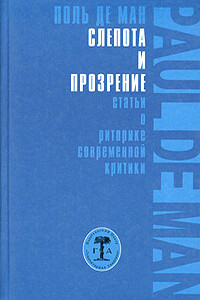Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста | страница 25
Может показаться нелепым увязывание такой почти механической процедуры с Именем Божиим. И все же очевидное богохульство можно в то же время считать гиперболой абсолютного фоноцентризма. Стихотворение из «Книги о житии иноческом» (1:20)[28] утверждает возможность преодоления самой смерти посредством благозвучия, и оно само исполняет это пророчество своим складом, «темным интервалом» [im dunklen Intervall], разделяющем и соединяющем ассонансом два слова «Tod» (смерть) и «Топ» (лад). Коль скоро нам удалось услышать песню, скрытую в языке, она сама приведет нас к согласованию времени и существования. Вот каково непомерное притязание этих стихотворений, притворяющихся, будто они называют Бога, и прибегающих к услугам посредника, отказавшегося от всех своих ресурсов, за исключением звуковых. Возможности представления и выражения уничтожены в ходе аскезы, не допускающей никакого иного референта, кроме формальных атрибутов носителя. Поскольку звук—это единственное свойство языка, которое поистине имманентно по отношению к нему и которое не имеет никакого отношения к чему-либо, что может располагаться за пределами языка, он и остается единственно доступным ресурсом. Кратилова[29] иллюзия, которая порой привлекается для конституирования сущности поэзии и которая подчиняет семантическую функцию языка его звуковой функции, вне всякого сомнения, используется и в «Книге о житии иноческом». Пусть и не вполне убедительно, но этот ранний сборник уже приобщается к орфическому мифу.
В этих текстах, в которых значительное техническое мастерство сменяется порой неуклюжестью, неудачность того притязания, о котором шла речь выше, столь же очевидна, как и его наличие. Стремясь создать связное обрамление последовательности стихотворений, Рильке вынужден заменить субъекта, рассказывающего историю своих переживаний, непосредственной красотой поэтического звука. Поэтому стихотворения приобретают значение, которое не вполне совпадает с их настоящим замыслом. Они выводят на первый план независимый субъект, сводящий благозвучие к функции украшения. В первом варианте «Книги о житии иноческом» это впечатление было еще усилено короткими повествовательными отрывками, вставленными между стихотворениями, своего рода дневником, комментирующим распорядок поэтического творчества[30]. То, что Рильке был вынужден ввести вымышленный персонаж, монаха, окруженного всеми принадлежностями ритуала, хорошо иллюстрирует его неспособность обойтись в то время без конвенциональных опор поэтического повествования. А поскольку субъекту отведена участь ремесленника благозвучия, он мало что способен рассказать. В двух следующих сборниках «Часослова», в особенности в «Книге о нищете и смерти», Рильке отказывается от притязания на самореференциальную манеру выражаться и возвращается к прямому выражению своей собственной субъективности. Тексты теряют большую часть своей формальной строгости и приобретают очевидный интерес, который привлекает к себе любая чувствительная душа, рассказывающая свою повесть. Эти стихотворения легко доступны и часто производят сильное впечатление, но при сопоставлении с изначальными и окончательными устремлениями Рильке они оказываются наименее величественным мигом его стихотворчества. Отвоевание безличности, восславленной и утраченной на страницах «Книги о житии иноческом», потребовало долгого труда в «Мальте» и в «Новых стихотворениях».