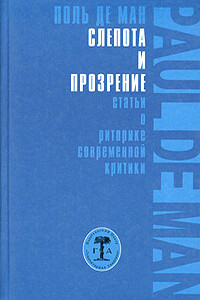Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста | страница 24
Но принуждение превращается в неохотное согласие. Во второй строфе отношение между «я» и «ты» уже не парадоксально и не диалектично, но, напротив, расцветает сияющим образом дерева. Обещание, данное вначале, исполняется так же естественно и гармонично, как плоды созревают под солнечными лучами. Смысл этого преображения — приобретение большего мастерства в той деятельности, которую символизирует стихотворение. Это мастерство утверждается сменой темы стихотворения: субъект, который сперва был вынужден клясться, теперь может действовать вполне свободно, сообразуя свою волю с волей «закона». Господствующая воля стихотворения преображена и из принуждения превращается в солнце благоволения, так что только повторение слова «темный» (dunkels Netz, dunkel tun) напоминает о первоначальном насилии. Кроме того, упоминание «руки» в предпоследней строке усиливает впечатление того, что речь идет о действии, подразумевающем навыки, которыми ученик, сперва сопротивляющийся обучению, теперь владеет в совершенстве.
Только в тексте может быть скрыто доказательство этого мастерства. Отношение двух субъектов, или грамматических «лиц», столь тесное, что места для любой другой системы отношений просто не остается. Именно чередование этих субъектов конституирует текст. Поэтому в стихотворении нет ничего такого, что дало бы нам право нарушить его границы в поисках не входящей в него очевидности: свобода, о которой говорится в конце,— как раз и есть свобода в оковах, которая может властвовать только потому, что смиряется с властью позволяющей ей существовать силы. Она подчинена единственной власти, единственному достижению текста.
Достижение это, однако, по преимуществу звуковое. Последняя строфа, в которой утверждается мастерство,— это также то место, где наиболее широко использованы эффекты благозвучия. Стихотворение заканчивается строками:
Lass deine Hand am Hang der Himmel ruhn
und dulde stumm, was wir dir dunkel tun.
Нетрудно проверить утверждение, что в этих последних строках стихотворения не появляется вообще ни одного слога, который не служил бы эффекту благозвучия. Главные рифмы и ассонансы (dulde stumm, wir dir, dunkel tun) взаимосвязаны слогами, которые сами оказываются ассонансами (und dulde) или аллитерациями (was wir) и таким образом вкладывают каждый звуковой эффект в другой, подобно тому как в большую коробку вкладывают меньшую. Мастерство этого стихотворения заключается в управлении звуковыми свойствами языка. Прочтение других стихотворений из «Книги о житии иноческом» подтверждает это заключение. «Бог», пределы которого при помощи множества метафор и сменяющих друг друга точек зрения описывают стихотворения, соответствует приобретаемой поэтом легкости применения рифм и ассонансов. Хорошо известно, что эти стихотворения были написаны очень быстро, в состоянии своего рода эйфории, которую Рильке вспомнит более чем двадцать лет спустя, в пору написания «Сонетов к Орфею»; именно эту эйфорию и воспевают стихотворения. На самом деле метафоры коннотируют формальный потенциал означающего. Референт стихотворения — атрибут их языка, сам по себе лишенный семантической глубины; значение стихотворений — овладение техническими навыками, которое они подтверждают своими успехами в акустике.