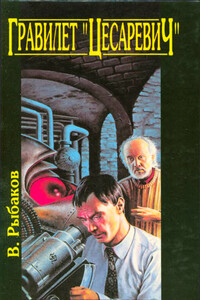Наши звезды. Се, творю | страница 120
Когда Ласкину позвонил некто Бабцев и попросил о встрече, первым порывом Вениамина было отказаться. Фамилия Бабцева была ему знакома, пожалуй, даже более чем знакома. В свое время Ласкин зачитывался его яркими и смелыми для своего времени статьями. Наверное, он у Бабцева даже чему-то учился. Но он давно выучился. Прошлое должно оставаться в прошлом. А Бабцев явно принадлежал ушедшей эпохе – вроде бы совсем недавней, но уже отвалившейся от края сегодняшнего дня и сорвавшейся в пропасть, как и многие до нее. Мир стал иным. Во времена Бабцева перед этой страной еще стоял какой-никакой выбор, и, казалось, человек способен что-то менять, что-то решать или хотя бы воздействовать на принятие решений; теперь все окостенело, и нужно, если потрудиться понять, какая именно свобода восторжествовала и где, просто играть в этой окончательно отстроенной грязной песочнице по ее правилам и печь для себя свои куличи, чем больше и дороже – тем лучше. Да, подобные Бабцеву люди еще пользовались влиянием, авторитетом, на них ссылались, им даже официальные награды порой навешивали как ветеранам борьбы за демократию, но что с того – всегда в этой стране живые только мешают, а в чести одни покойники, только их можно публично уважать, цитировать, возносить в качестве образцов для подражания; ну, и еще тех, кто одной ногой в могиле. Духовных покойников. Когда пришли опыт, навык, понимание и осознание смысла своей работы, тексты статей и интервью Бабцева вдруг оказались какими-то половинчатыми, жалкими. Такое впечатление, что он, когда писал – думал! Может, даже переживал! Может, даже тужился что-то втолковать…
А кому это сейчас надо? Сейчас надо разить!
Однако Ласкин не отказался. Наоборот, выразил восторг – вполне, впрочем, умеренный – оттого, что зачем-то понадобился старшему уважаемому коллеге. С готовностью принял предложение попить завтра вместе кофейку в любом удобном Ласкину заведении. В конце концов, это было любопытно. А потом – нелепо отказываться от возможности приблизиться к кому-то, кто пока выше тебя. Никогда не знаешь, может, он-то и окажется ступенькой для твоего подъема. Занимаемся-то, в сущности, одним делом, успел сообразить Ласкин, и кормушка одна…
Бабцев оказался примерно таким, каким Ласкин его себе и представлял. Моложавее своих лет, он сохранял изрядный налет запальчивой, самозабвенной интеллигентности – наверное, сродни той, что давным-давно, в старозаветные времена, когда Ласкин пешком под стол ходил, кидала молодых дурачков под краснозвездные танки зачастивших было путчистов. Ласкин вполне мог представить Бабцева в кадрах архивной кинохроники – скажем, на доисторической баррикаде перед Белым домом: с солнечными глазами, чеканя пророческие слова, самозабвенный юноша через осипший мегафон пламенно предупреждал бы народы о новой смертельной угрозе свободе и правам. Но теперь это был уж не огонь – в лучшем случае синие дрожащие язычки над прогоревшими углями. Внимательному глазу быстро становилось видно, как изжевала Бабцева жизнь. Лицо его будто вынули недавно из стиральной машины. И моложавость его была потрепанной, и элегантная ухоженность – после жесткого отжима. И в глазах – не солнце, а луна. Знобкое отраженное мерцание перед погружением во тьму.