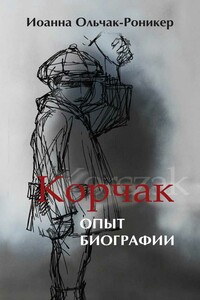Крымский узел | страница 14
). Тем не менее, это, очевидно, не вполне соответствует действительности.
Письмо А. Лебедя приоткрывает завесу над причинами российского подхода: это задержка с определением статуса ЧФ на территории Украины, отсутствие подвижек в решении проблемы его базирования. Лебедь рекомендовал использовать «территориальные разногласия» как рычаг для давления на Украину в вопросе о флоте.[39] Это было вполне адекватно понято украинскими политиками. Так, например, С. Головатый, комментируя решение Совета Федерации России в декабре 1996 года, отметил в интервью газете Коммерсант-Daily, что, по его мнению, «российские сенаторы, явно понимая бесперспективность своих претензий в отношении Севастополя, хотят самим фактом их выдвижения заставить Киев подписать соглашения о разделе на выгодных Москве условиях».[40]
Казалось бы, особняком стоит позиция Ю. Лужкова, недвусмысленно акцентировавшего внимание именно на территориальных проблемах,[41] однако, в действительности и она не выпадает из традиционной стратегии Москвы в крымском вопросе, составной частью которой всегда была игра «риторическими мускулами», рассчитанная на произведение известного эффекта. Общим местом в оценке «внешнеполитических инициатив» Ю. Лужкова уже давно стали указания на его стремление создать себе имидж патриота ввиду новых президентских выборов.[42]
Следует иметь в виду, что усиление «крымской» риторики в конце 1996 года совпало с острыми дискуссиями внутри российского истеблишмента по проблеме расширения НАТО на Восток, в которых был очень существенен момент «гарантий безопасности» страны. Тема Севастополя, как и тема Белоруссии, поднималась в контексте поисков «адекватного ответа» Североатлантическому альянсу. Как только было достигнуто общее соглашение с НАТО, а также произошло известное разграничение сфер влияния России и НАТО в государствах бывшего СССР, «проблема Севастополя» была быстро закрыта, что говорит о том, что ее вряд ли можно рассматривать как самостоятельный фактор российской внешней политики. С приближением НАТО к границам России, российские политики всерьез задумались о создании новой военно-политической системы на территории бывшего СССР. Это неизбежно повлекло за собой поиск и привлечение надежных союзников. В этих условиях политическая конфронтация с Украиной выглядела слишком неконструктивной. Постепенно стороны стали переходить от взаимных претензий к выработке партнерского стиля взаимоотношений. Важной вехой на этом пути стало подписание широкомасштабного Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной в 1997. Что касается трудностей его ратификации российской стороной, то они также отражали не столько глубоко укорененный в российском сознании ирредентизм, сколько особенности вполне естественного привыкания к новой реальности.