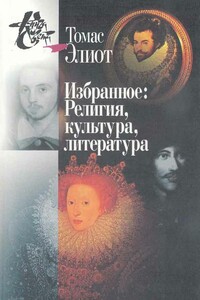Назначение поэзии | страница 7
Те открытия, которые ему принадлежат, — скажем, сегодняшнее прочтение английских „метафизических поэтов“ XVII века, восстановившее их истинное место в литературе, или прочтение Бодлера как поэта, вовсе не сводимого к декадансу, поскольку его областью были вечные вопросы человеческого бытия, — сделаны благодаря этому широкому взгляду на движение культуры. Он несводим к „критической ортодоксии“ унылого академического свойства, как не исчерпывается он и полемическими установками самого Элиота. Полемика стала фактом истории литературы, но идеи, высказанные Элиотом, остались, и они способны питать современную критическую мысль — часто вопреки методологии, подчинявшей себе эти идеи у него самого.
Работа "Назначение поэзии и назначение критики" в контексте литературно-критической теории Т.С. Элиота
Томас Стернз Элиот (1888–1965) принадлежит к плеяде известнейших европейских поэтов XX в. Его имя можно поставить в один ряд с именами П. Валери, P.M. Рильке, У.Б. Йейтса, Эзры Паунда. Если в начале нашего столетия многие могли счесть его стихи экстравагантными, а в нем самом увидеть дерзкого экспериментатора, то с середины 40-х гг. Элиот становится официально признанным мэтром англоязычной поэзии, и в 1948 г. ему присуждают Нобелевскую премию по литературе. Современный образованный европейский (в том числе и русский) читатель видит в нем автора программных для англоамериканской литературы поэтических произведений, поэм "Бесплодная земля" (1922), "Пепельная среда" (1930) и "Четыре квартета" (1943).
Мировую известность Элиоту принесла не только его поэзия, но и его литературная критика. Невозможно переоценить то влияние, которое она оказала на современную западноевропейскую культуру. Теоретические работы Элиота в области литературной критики и культурологии регулярно переиздаются, о его поэтологической концепции уже написаны десятки монографий и сотни статей. Создается впечатление, что интерес к Элиоту у литературоведов, философов и культурологов нисколько не ослабевает, а, напротив, усиливается. И действительно, потенциал его идей оказался для XX века неисчерпаемым. Критике и филологии на сегодняшний день так и не удалось полностью освоить и включить в свой инструментарий все те возможности, которые открыла для культуры элиотовская мысль.
Между тем в России Элиот-теоретик практически неизвестен. Критический опыт Элиота не был здесь воспринят и как-либо переработан применительно к собственным проблемам. Объяснений этому более чем достаточно. Прежде всего, Элиот не был в официальном списке "друзей Советского Союза". К тому же советская филология не удостоила его чести быть причастным к "поэтам-реалистам". Это осложняло путь Элиота-теоретика к отечественному читателю. Его статьи публиковали выборочно, и составить по этим немногочисленным подборкам целостное представление о его теории крайне затруднительно. И все же наше знакомство с Элиотом можно считать состоявшимся. Читателю стали доступны переведенные на русский язык такие замечательные эссе, как "Традиция и индивидуальный талант", "Назначение критики", "Гамлет", из ранних работ: "Социальное назначение поэзии", "Что такое классик?", "Байрон". Однако слово "знакомство" звучит в отношении Элиота курьезно. Знание, хотя бы самое общее, его теории совершенно необходимо каждому, кто считает себя современным литературоведом или критиком.