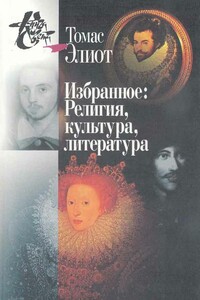Назначение поэзии | страница 6
Он это, безусловно, сознавал, возможно, мучился этим, и как раз в таком контексте следует понимать частые у него мысли о „творческой неудаче, которая, впрочем, бывает весомее и значительнее иных побед“. Во всяком случае, ориентация на подобным образом понятую классику уберегла Элиота от тупиков, в которых так быстро оказывалась „поэзия отчаяния“, с него самого взявшая щедрую дань в 10-е и 20-е годы, как уберегла и от стилизаторства, от поверхностных имитаций, пленивших не одного по-своему одаренного подражателя, изо всех сил старавшегося стать вровень с великими художниками прошлого. Никто не назовет поэзию Элиота выражением „духа всего народа“, но служить им она стремилась, иной раз — как в „Четырех квартетах“ (1943), лучшим из всего созданного Элиотом-поэтом, — подходя к цели довольно близко. И тем же стремлением в конечном счете определялись критерии, которыми руководствовался Элиот как критик.
Но именно — в конечном счете. Далеко не сразу назначение критики Элиот сформулировал так, как это сделано в лекции 1956 года. „Освободиться… от ограниченностей своего времени и освободить поэта… от ограниченностей его эпохи“. Эта формула тоже уязвима хотя бы своей конечной неисполнимостью, по крайней мере применительно к поэту, до той или иной степени всегда связанному временем, у которого он в плену, даже оставаясь заложником вечности. Но принцип, изложенный в „Границах критики“ (1956; опубликовано в сборнике „О поэзии и поэтах“) все же намного перспективнее, чем те апологии сугубо эстетического прочтения, которыми заполнены ранние работы Элиота с их войной против любого рода „импрессионизма“, равно как „метафизических абстракций“.
Как требование, чтобы критика говорила на языке той системы, которую она интерпретирует, его выпады по адресу Арнольда или Кольриджа понятны, но все равно несправедливость многих элиотовских упреков очевидна. Они внеисторичны. И понятие „меры“, столь ценимой Элиотом у Драйдена, не универсально, а принадлежит классическому художественному сознанию. И никому, рассуждая о поэзии, не запрещено „философствовать“, если это все-таки рассуждение о поэзии, а не поверх нее.
Сам Элиот, касаясь поэзии, „философствовал“ постоянно, так как всякий раз от конкретики переходил к широким категориям, касающимся судеб культуры. Строго говоря, он вообще не был литературным критиком в_привычном значении этого термина.
Стилистика, поэтика, образность — все это интересовало его не как историка литературы. Эти категории у него восприняты сознанием культурфилософа, стремящегося проследить, каким образом „самое древнее, забытое“ напоминает о себе в созданиях позднейших эпох, как связываются начала и концы, как происходит непрерывное накопление художественных ценностей. Оно отнюдь не представало Элиоту поступательным процессом, потому что его привлекали как раз внешние неожиданные возвращения к истокам, скачки, нелогичные разрывы преемственности, на поверку оказывающиеся единственным способом сохранить ее непрерывность.