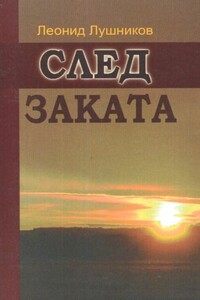Аустерия | страница 36
— Надо его разбудить, — сказал фотограф Вильф.
— Пускай спит.
— Моя Бланка уже спит наверху. А здесь ее ботинки. Уже десять часов. Я никогда не ложусь раньше двенадцати. Всегда ждал, пока ляжет Ася. Пока она сделает все уроки, выполнит все задания. Ася была очень прилежная. Первая ученица в классе. Пока он не сбил ее с толку. Это он во всем виноват. Бланка моя ей всегда говорила…
— Хорошо, что она спит наверху. В случае чего надо будет всех разбудить и спрятать в подпол.
— Моя Бланка всегда была к ней очень добра, с первого же…
— С чего бы ей не быть доброй?
— Еще до того, как я на ней женился, она сама мне сказала: «Любимый, не беспокойся, я буду ей настоящей матерью».
— Почему нет?
— Я отнесу Бланке ботинки. Может, ей понадобится на минутку выйти.
— Так выйдет босиком.
Внезапно распахнулась дверь. Подул ветер, непоседливые огоньки в подсвечниках взметнулись высоко и поникли, но ненадолго.
Гершон стоял на истоптанном пороге, отделяющем залу аустерии от спальной комнаты, деловую часть от жилой.
— Кого там еще принесло?
Старый Таг поднял голову, постоял, прислушиваясь. Потом поправил ермолку и вышел.
— Кто это может быть? — спросил фотограф Вильф.
Сапожник Гершон переступил порог и вошел в спальню.
— Казаки?
— Не знаю, — сказал Гершон.
— Гусар… здесь?
— Не знаю. Может, здесь.
— Надо с ним что-то сделать. Где он сейчас? Остался в кухне? Или он не остался в кухне? Остался?
— Если остался, значит, здесь.
— Сидит?
— Может, сидит, может, стоит, я знаю! Какая разница?
Сапожник Гершон подошел к кровати.
Поникшие было огоньки ожили. Снова подскакивали и возвращались в чашечки подсвечников.
Сапожник Гершон посмотрел на Бума и на закрытое черной шалью зеркало. Хуже всего умирать, если ты еврей.
— Как он может так храпеть? — спросил фотограф Вильф.
— Намучился. Всю дорогу ее нес.
— Моя Бланка ей всегда говорила…
— Бедный мальчик. Она умерла у него на руках.
— Говорила ей Бланка: «Не отходи, держись около меня, не то потеряешься». И так далее. А она вдруг исчезла. — Фотограф указал сапожнику Гершону на стул рядом с покойницей. — Прошу. У евреев покойника не оставляют. Нельзя, чтобы она тут была одна. Я сейчас вернусь. Посидите здесь.
Хорошо? — Он шагнул к двери. Но еще вернулся и взял стоящие возле шкафа ботинки.
Кантор, сын кантора, стоял посреди залы аустерии.
На лавках по обеим сторонам длинного стола сидели те, что убегали, — те же и в том же самом порядке. Все вернулись.
Темнота стирала их лица по-разному: чем дальше, тем больше. Только золотая оправа очков вспыхивала и гасла.