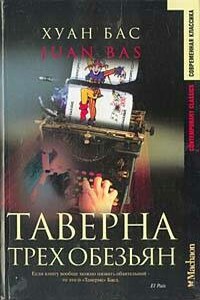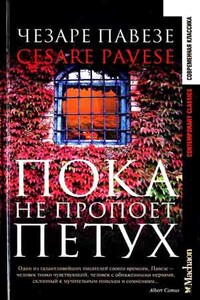Из Африки | страница 19
Все африканцы привержены драматическим эффектам. Каманте тщательно забинтовал себе ноги до колен, приготовив мне сюрприз. Не вызывало сомнений, что важность момента он усматривает не в своей удаче, а в том удовольствии, которое собирался мне доставить. Он, видимо, помнил, как меня огорчала моя неспособность его вылечить, и понимал, что успех больничного лечения равен чуду. Он невыносимо медленно размотал бинты, и моему взору предстали здоровые гладкие ноги с чуть заметными рубцами.
Сполна насладившись в своей величественной манере моим изумлением и восторгом, он усугубил важность момента заявлением, что сделался христианином.
— Я теперь такой же, как ты, — сказал он и добавил, что неплохо было бы получить от меня рупию по случаю годовщины воскресения Христа.
Затем он отправился к своей родне. Его мать была вдовой и жила на дальнем конце фермы. Судя по ее дальнейшим рассказам, сын в тот день отступил от своих привычек и выложил ей все свои впечатления о чужом народе и об обращении с ним в больнице. Побыв в материнской хижине, он вернулся ко мне, словно уже не сомневался, что его место — при мне. С тех пор он прислуживал мне до тех пор, пока я не покинула его страну, то есть на протяжении двенадцати лет.
При первой встрече Каманте можно было принять за шестилетнего ребенка, однако у него был брат, выглядевший на восемь лет; оба соглашались, что Каманте — старший. Видимо, у него случилась задержка роста, вызванная длительной хворью. На самом деле ему было тогда лет девять. С тех пор он вытянулся, но все равно походил на карлика или уродца, хотя нельзя было толком сказать, что конкретно делало его таким. Со временем его заостренное личико округлилось, он без труда ходил и вообще двигался, и лично я даже считала его миловидным, хотя я, видимо, была к нему пристрастна, так как приложила руку к изменению его облика. Ноги у него навсегда остались тоненькими, как спички.
Это была фантастическая фигура: глядя на него, хотелось то смеяться, то плакать. Подправив лишь самую малость, его можно было бы усадить среди горгулий на карниз собора Нотр-Дам в Париже. При этом в нем оставался свет жизни; на полотне живописца он оказался бы светлым пятном. К тому же он придавал моему дому живописности. Он никогда не отличался здравым рассудком, вернее, человека с таким поведением, но с белой кожей, называли бы завзятым эксцентриком.
Ему была свойственна задумчивость. Видимо, долгие годы страданий приучили его к размышлениям и к собственным выводам по любому поводу. Он был полностью погружен в свою жизнь и проявлял крайнюю нелюдимость. Даже делая то же самое, что остальные люди, он умудрялся делать это по-своему.