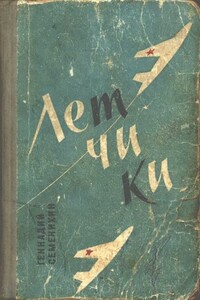Осенние дожди | страница 76
— Зачем же так, Алеша? — мягко возразил я.— Неприятны расспросы? Хорошо, обещаю никогда ни о чем не спрашивать.
Алексей смутился.
— Простите, Алексей Кирьянович,— просто сказал он.— Я и сам не знаю, что со мною творится. Когда-нибудь я, может быть, вам все расскажу. Помордовала меня жизнь...
Я пожал ему руку:
— Ничего, Алеша, ничего. Все в порядке.
Так ли уж в порядке? Вчера, когда я под вечер шел с почты, Серега догнал меня. Зашагал рядом, сосредоточенно глядя себе под ноги, непривычно серьезный и молчаливый.
— О чем задумался, детина? — пошутил я.
Он шутливого тона не поддержал. Вдруг попросил:
— Вот бы вам с Алешкой потолковать, Алексей Кирьянович. Пусть не злится на меня. Глупость все. Никакой я ему не соперник.
— Не понимаю? О чем это?
— Не о чем, а ком. Об Анюте. Только зря он это подумал. Поговорите с ним, а?
— Да разве в таких делах возможен посредник? Взяли б да объяснились, что же тут такого?
— Вы еще его характера не знаете.
Я пообещал:
— Ладно, попробую при случае.
Но самым удивительным и для меня неожиданным был разговор с бригадиром. Вообще-то Лукин не из тех, кто станет смущаться, если ему что-нибудь нужно сказать; а тут, замечаю, ходит вокруг меня, поглядывает и все норовит выбрать удобный момент, чтобы начать разговор.
Да ты что все с подходом? — говорю.— Выкладывай, чего смущаешься?
Он растерянно улыбнулся.
— Дивное дело, понимаешь. Все люди, согласно науке, от обезьяны произошли. А я, надо думать, от бурундука?
— Как это? — рассмеялся я.
— А вот так. Как придет осень, просыпается во мне окаянный заготовительный инстинкт. Зиму — весну вкалываю где-нибудь за тыщи верст от дома — хоть бы что. Даже в голову ничего этакого не приходит. Летом уж и говорить нечего: лето — пора бродяжья. А пожелтел лист — тянет домой, как магнитом, что хочешь делай. Как же так, думаю? Маруся моя там сейчас надрывается, картошку копает, капусту в засол рубит, дрова заготавливает, а я тут разгуливаю, руки в брюки. Как падишах какой.
— А ты полагаешь,— хохочу я от души,— падишах — руки в брюки?
— Так должны быть для них какие-то льготы?
В самой манере изъясняться у Лукина всегда есть что-то от скрытой усмешки, и не только над другими: над самим собою. Но тут, вижу, ему не до этого. Мысли и заботы у него как нельзя более земные, семейные — по хозяйству. Вечерами он сочиняет своей Марусе длинные наставления, це-у — ценные указания, как он сам, посмеивась, называет свои письма. И на месяц-другой становится, по безжалостному определению Шершавого, «натуральным жмотом». Теперь его не соблазнишь субботним предложением «скинуться»: будет изъясняться междометиями, а в конце концов откажется. И пятеркой до получки у него не разживешься: все, мол, до копейки домой отослал!