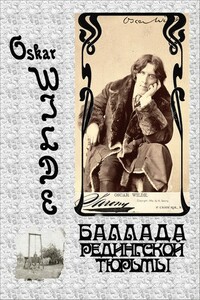Пучина страстей | страница 14
У Достоевского:
Олейникову не нужна была точность цитаты; ему нужно было установить связь между гротескным облнчием своей поэзии и гротеском Достоевского. В «Таракане» опять двоящийся животно-человечески и образ, с помощью которого Олейников рассказывает о насилии над беззащитным. Рассказывает на олейниковском языке, потому что не умеет, не хочет пользоваться традиционными наречиями поэзии, по его убеждению уже потерявшими способность означать.
Коллизия жестокости и беспомощности заострена все больше нагнетаемой гиперболичностью, — на маленького таракана направлены огромные, многообразные орудия пытки и убийства. Таракан сидит в стакане и ждет казни.
К таракану подходит палач, который «Громко ржет и зубы скалит».
«Таракан» Олейникова вызывает неожиданную ассоциацию с рассказом Кафки «Превращение». Это повествование о мучениях и смерти человека, превратившегося вдруг в огромное насекомое (некоторые интерпретаторы считают, что это именно таракан). Совпадают даже некоторые сюжетные детали. У Кафки труп умершего героя служанка выбрасывает на свалку, у Олейникова —
Скорее всего, это непроизвольное сближение двух замыслов, потому что в те времена Кафка не был еще у нас известен и Олейников едва ли его читал. Между тем историческое подобие между Олейниковым и старшим его современником несомненно существует.
Классическая трагедия и трагедия последующих веков предполагала трагическую вину героя или трагическую ответственность за свободно выбираемую судьбу. XX век принес новую трактовку трагического, с особой последовательностью разработанную Кафкой. Это трагедия посредственного человека. бездумного, безвольного («Процесс», «Превращение»), которого тащит и перемалывает жестокая сила.
Это коллизия и животно-человеческих персонажей Олейникова: блохи Петровой, карася, таракана, теленка, который плачет «под кинжалом мясника». Сквозь искривленные маски, буффонаду, галантерейный язык с его духовным убожеством пробивалось очищенное от «тары» слово о любви и смерти, о жалости и жестокости.
Олейников — сам человек трагического мироощущения и трагической участи. Он был осужден и погиб. О своем настоящем поэтическом слове он сказал:
— Я только для того и пишу, чтобы оно зазвучало…
А. Олейникова. Поэт и его время
Приближается столетие со дня рождения Николая Макаровича Олейникова (1898–1937). Художник оригинальный И яркий, сатирик и обличитель, философ и лирик, он сказал свое слово в русской поэзии и оставил заметный след во многих других литературных жанрах. В последние годы стихи Николая Олейникова стали появляться в печати. Но значительная часть его творческого наследия продолжает оставаться неопубликованной или полузабытой. Поэт и киносценарист, журналист и редактор, он был создателем иронических гротесков и уничтожающих эпиграмм, мастером документального рассказа и сказочного повествования, автором лирических стихов и исследований в области высшей математики.