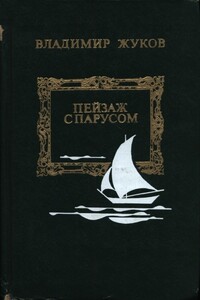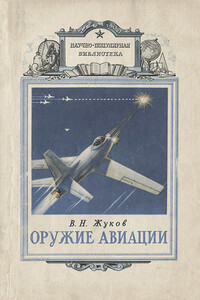«Север» выходит на связь | страница 45
Задолго до войны ему довелось слышать, как выступал перед молодежью видный большевик, страстный пропагандист идей партии Емельян Ярославский. Оратор говорил о невероятных трудностях и лишениях гражданской войны, о том, как их преодолевали коммунисты. Привел такой пример: получат, бывало, на роту две пары сапог, и возникает вопрос — кому же их дать, когда все разуты? Партячейка решает: «Обуть тех беспартийных, кто наиболее нуждается, а мы, большевики, и так выдюжим».
Вспомнив это, Михаил посмотрел на недавно выступавшую Гумилевскую, бухгалтера. Она сидела неподалеку — в ватнике, в сапогах, на голове вязаный платок. И будто бы снова прозвучали в ушах Михалина страстные слова женщины: «Холода наступают. Как там в окопах? Теплые вещи свои соберем…» Да, такие люди все отдадут. Как в гражданскую: мы, большевики, и так выдюжим!
Михалин мысленно поблагодарил Ливенцова за приглашение на собрание. Оно никогда не забудется. Не оттого ли, что на заводе проходит, в рабочей среде да еще в городе, где все дышит духом революции? Уж он-то, Михалин, конструктор-разработчик, знает, какое чудо сотворили сидящие кругом люди, наладив производство «Северов» в немыслимые даже в мирное время сроки. А вот поди ж ты — ни слова похвальбы. Докладывает кто об успехах и говорит: «Мы сделали», а если не получилось, подчеркивает: «Я не доглядел, моя вина». Знаешь, что тот вон и тот старые друзья, водой не разольешь, а до чего крепко критикуют перед собранием друг друга! И хоть бы тень обиды…
Вот она — партийность, говорил себе Михалин, она каждого подымает, всех сплачивает.
Собрание продолжалось. А за окнами, над крышей пело: пи-и-у… и-у! Даль откликалась эхом снарядных разрывов.
Под конец запели «Интернационал». Михалин с чувством подтягивал: «Кипит наш разум возмущенный и в смертный бой вести готов». Слова великого гимна обрели новый, прямой смысл. Впереди действительно ждал бой, смертный бой.
В окопах и в городе
Если бы Миронову предложили прочитать лекцию об электронной лампе, он бы мог начать так: «Электронная лампа — это вакуумный или наполненный разреженным газом прибор, в котором потоком свободных электронов, вылетевших из катода, создается электрический ток между катодом и анодом…» В общем, все просто. В науке все просто, когда изучено, проверено, описано, изложено.
Но если бы при Миронове, опытном связисте, кто-нибудь сказал, что-де потребовалась новая лампа — диод или триод, — так пусть конструктор вооружится формулами, таблицами и создает ее, лампу, — нет, возразил бы Иван Миронович, хоть и на всем готовом, а далеко не уедешь! Как, скажем, с одним лишь знанием теории стихосложения не написать поэму. Требуется еще «малость» — талант теоретика и труд инженера.