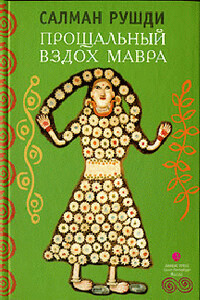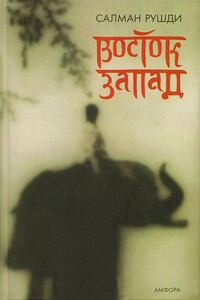Сатанинские стихи | страница 43
— Скажи своему сыну, — прогремел Чингиз, обращаясь к Насрин, — что, если он ездил за границу учиться презрению к собственному роду, тогда его собственный род не может чувствовать к нему ничего, кроме презрения. Кто он такой? Фаунтлерой>{144}, великий панджандрам>{145}? Неужто такова моя судьба — потерять сына и найти урода?
— Чем бы я ни стал, дорогой отец, — ответствовал Саладин старику, — всем этим я обязан тебе.
Это была их последняя семейная беседа. Всё это лето чувства продолжали ускользать от всех примиренческих попыток Насрин, ты должен извиниться перед отцом, дорогой, бедняга страдает как чёрт, но гордость не позволит ему обнять тебя. Даже айя Кастурба и старый носильщик Валлабх, её муж, пытались выступить посредниками, но и отец, и сын оставались непреклонны.
— Одного поля ягоды — вот в чём проблема, — сказала Кастурба Насрин. — Папаша и сынуля, плоть от плоти, яблочко от яблоньки.
Тот сентябрь, когда началась война с Пакистаном>{146}, Насрин решила с демонстративным пренебрежением, что не желает отменять свои пятничные вечеринки, «дабы показать, что индийцы-мусульмане>{147} могут не только ненавидеть, но и любить», подчеркнула она. Чингиз видел блеск в её глазах и не пытался спорить, вместо этого велев слугам установить затемнение на окнах. Этим вечером — в последний раз — Саладин Чамчавала играл свою старую роль дворецкого одетым в английский смокинг, и когда прибыли гости (те же самые старые гости: запорошенные седой пылью возраста, но те же самые во всём остальном), они осыпали его теми же старые ласками и поцелуями, ностальгическими благословениями его детства. «Смотри, как вырос, — говорили они. — Просто прелесть, что и говорить». Все они пытались скрыть свой страх перед войной, перед