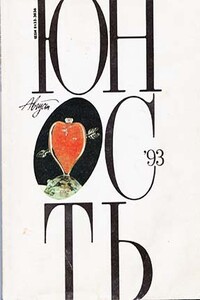Записки Степной Волчицы | страница 42
Боже мой, с кем нам приходилось жить!
Из уважения к господину N. я не возражала. Но про себя думала, что здесь обычная для литераторов ревность плюс борьба мужских самолюбий. К тому же, я всегда считала мужа гением, — во всяком случае, не меньшим, чем господин N. Последний, к слову сказать, был поклонником всяческих «высших социологий». Все у него выходили дегенератами и примерами бытового помешательства. Особенно, писатели, с их уверенностью в своем мессианском предназначении, параноидальным стремлением улучшить этот и без того прекрасный мир. И я, конечно, тоже. Со всеми прелестями садомазохистского комплекса. Это было очень обидно. Но я терпела. Кто знает, может быть, действительно не без того? Впрочем, господин N. отлично умел подсластить свои горькие пилюли. Себя он тоже анализировал, даже находил некоторые дегенеративные признаки, но было сразу ясно — лишь для виду, для отвода глаз, — а в глубине души дегенератом себя ничуть не считал. Куда там — гений и есть гений.
Так или иначе, все эти годы господин N. был для меня единственным спасательным кругом. Ему я звонила, стоя на балконе, глядя в манящую семнадцатиэтажную бездну или сидя в ванной с бритвой. Он меня действительно понимал, по-настоящему, искренне жалел. Я чувствовала это, ценила и уважала его, — настолько, насколько вообще способна Волчица ценить и уважать человека.
— А что, — застенчиво говорила я, — может, мне тоже взять да изменить мужу. Вот найду себе какого-нибудь банкира и заживу припеваючи… Где бы мне найти банкира, а?
— Не знаю, — бормотал он, косясь меня таким недоуменным взглядом, что я казалась себе похожей на чучело, не годное даже для того, чтобы пугать в огороде ворон.
Что касается книг господина N., то вот уж тот случай, когда произведения абсолютно непохожи на своего создателя! Он был автором нескольких необыкновенных, вселенских романов, настоящих подарков русской литературе, — известных, однако, лишь двум десяткам читателей, и, пожалуй, мог быть причислен к гениальным неудачникам. Откуда в нем эти загадочно-необъятные миры — ума не приложу? Он, конечно, давил на меня своим авторитетом, но я вполне допускала, что если литература как таковая вообще сохранится, то место классика ему обеспечено. «Все писатели делятся на две группы, — говорил он. — Одни считают литературу словесным поносом, другие — геморроем. Я же не принадлежу ни к тем, ни к другим…»
Иногда он казался мне фантастически свободным человеком (неудивительно, что любое ничтожество чуяло эту внутреннюю свободу за версту и заведомо проникалось к нему лютой ненавистью), а иногда — задерганным неврастеником, закованным в бесчисленные комплексы неполноценности. Перечислять его странности — о, для этого нужно запастись терпением! Невероятное сочетание самовлюбленности и самоиронии, замкнутости и откровенности, лицемерия и честности. Желчь и нектар в одном флаконе. То он казался милым Винни-Пухом, то был похож на угрюмого Степного Волка. Если только Степной Волк мог быть примерным отцом и семьянином. Как бы там ни было, Герман Гессе, по его собственному признанию, был его любимым писателем. Впрочем, у кого только он не был любимым писателем, тут же смеялся мой знакомый. Кстати, он-то и подбросил мне, женщине, идею — писать дневники по канве этого культового романа. Однажды, прогуливаясь со мной у книжного развала и вдохновившись неожиданной идеей, указал на книгу, которой зачитывался в молодости. «Вот, — воскликнул он, — если бы ты взяла и буквально переписала ее — от женского лица и, наполнив собственным опытом, — могло бы получиться любопытное, предельно откровенное произведение, принадлежащее перу женщины. Без обид, но ведь, кажется, вы, женщины, до сих пор не создали ни одного действительно культового, программного произведения, честного произведения, в основе которого лежал бы и стопроцентно женский образ и архетип. Великолепная мысль! Стебная Волчица! Хоть самому взяться за перо! Ей-богу, если в ближайшие пару месяцев ты не напишешь бестселлер, я сам засяду за книгу…»