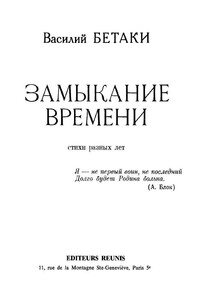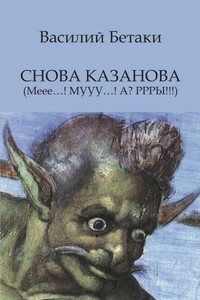Русская поэзия за 30 лет (1956-1989) | страница 82
Вот поразительный пример: когда во время войны вышел "перевод" Тарковского колоссальной по объёму поэмы "Сорок девушек", то в подзаголовке стояло "каракалпакский эпос".
А более чем три десятилетия спустя, в "Избранном" 1982 года отрывки из этой огромной поэмы уже были напечатаны среди собственных произведений Тарковского, хотя и указано, что поэма писалась "по мотивам" народных сказаний каракалпаков.
Итак, Тарковскому приходилось выдавать собственное творчество за перевод, чтобы опубликовать! Одни только нередкие аллюзии, да и прямые ссылки в тексте на суфиев, исключали в то время публикацию этой любимой Тарковским поэмы под собственным именем. А как фольклорное произведение, она была напечатана огромным тиражом. И невероятно изобретательная смена ритмов и мелодий, что вовсе не свойственно поэзии Востока, ни у кого тогда не вызвала подозрений: ну, мало ли как переводят с подстрочников…
Сравнивая дарование Тарковского с близкими ему Державиным и отчасти Тютчевым, критик Сергей Чупринин говорит в предисловии к однотомнику 1982 года: "Отношения между поэтом и миром справедливо было бы назвать средневековыми. Таковы отношения сюзерена и вассала, владыки и прихожанина". И дальше: "Слишком велика иерархическая дистанция, разделяющая мир и человека, слишком не¬соизмеримы их уделы".
Впервые вместо полагающегося по соцреалистическим нормам восхваления человека (Человека!), особенно советского, вместо идеологии антропоцентрического зазнайства, принятого за последнюю и обязательную истину в СССР, поэт с уважением говорит о мысли, бьющейся над главным гамлетовским вопросом. Вспоминаются тут слова Гавриила Державина:
Я — связь миров повсюду сущих,
Я крайня степень вещества,
Я средоточие живущих,
Черта начальна божества.
Именно перекликающееся с державинским представление о двуедином начале в человеке, по ощущению Тарковского — «божественное и тварное вместе», — именно эта двойственность и заставляет его метаться в поисках смысла бытия. Вот почему на строку Державина "Я царь, я раб, я червь, я Бог" откликаются стихи Тарковского, говорящие о человеке –
Два берега связующее море,
Два космоса соединивший мост.
И вот — словно Гамлет с черепом Йорика в руках — Тарковский хочет угадать, а есть ли встреча с ушедшим и ушедшими?
А если это ложь, а если это сказка,
И если не лицо, а гипсовая маска
Глядит из-под земли на каждого из нас,
Камнями жесткими своих бесслезных глаз?
Поэзия Арсения Тарковского пронизана спором смертности с бессмертием. И дело не только в том, что суть человека двойственна, а в том, что эта двойная суть (как, впрочем, и в философии Бердяева) определяет свободу выбора: быть ли роботом обстоятельств, судьбы, бога, или быть соучастником продолжающегося вечно процесса сотворения мира, попутно, кстати, опровергая красноречие лермонтовского демона — «клянусь я первым днём творенья, клянусь его последним днём»…