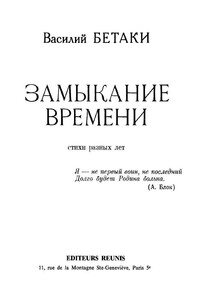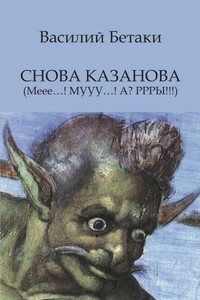Русская поэзия за 30 лет (1956-1989) | страница 39
На них коммунисты опирались еще до всех революций. Примеры? Камо, а так же Коба (Джугашвили) — знаменитые грабители банков, прежде всего тифлисских…
Так что Кедрина в любом случае убили уголовники…
Может и простые, но вернее — "королевские пираты" — уголовники на службе у пахана Кобы. Да и какому пахану или атаману не надоели бы невежливые намёки, постоянно проскакивающие в печать через кретинов-цензоров?
А появлялись такие намеки в самые что ни на есть глухие годы! Стихотворение Кедрина "Алена-Старица" написано (и опубликовано!) в 1938 году. Старуха-нищая, которой довелось "важивать полки Степана Разина" сидит в застенке. "Судья в кафтане до полу" допрашивает ее, что делала, мол, она
"в погибель роду цареву, здоровью алексееву".
Это ведь в те годы написано, когда и военачальников, и врачей, и инженеров — всех обвиняли во вредительстве, когда газеты истерически раздували манию преследования, когда в каждую ночь по десятку пытали и по несколько
десятков допрашивали в одной только Москве…
В Зарядьи над осокою
Горит зарница дальняя,
Горит звезда высокая.
Терпи, многострадальная!
А тучи, словно лошади,
Бегут над Красной площадью.
Все звери снят, все птицы спят,
Одни дьяки людей казнят.
Цензура оказалась еще тупее, чем мы себе ее представляем. Под последней строкой этого стихотворения с первой его публикации стоит дата: 1938.
Имя Дмитрия Кедрина прославило стихотворение "Зодчие". Написанное в те же предвоенные годы, оно повествует о мастерах, построивших храм Василия Блаженного и ослепленных по приказу Ивана Грозного.
..И спросил благодетель:
"А можете ль сделать пригожей,
Благолепнее этого храма
Другой, говорю?"
И, тряхнув волосами,
Ответили зодчие: "Можем!
Прикажи, государь!" И ударились в ноги царю.
И тогда государь
Повелел ослепить этих зодчих,
Чтоб в земле его Церковь
Стояла одна такова…
В этом стихотворении о вечном конфликте искусства и власти, духовной свободы и прихоти тирана, грозный царь изображен злодеем, но всё же злодеем величественным. Это конечно пугает, но отчасти ведь и героизирует образ, как во второй части эйзеиштейновского фильма. И должно было пройти лет двадцать, пока выветрились следы этого невольного кедринского возвеличения.
Приведу тут для сравнения строки из начала ранней поэмы А. Вознесенского "Мастера", интонационно уже откровенно скоморошьей и тем полемизирующей с "Зодчими" именно в трактовке образа Ивана: если у Кедрина царь действительно грозный, то у поэта шестидесятых годов — его образ предельно снижен: