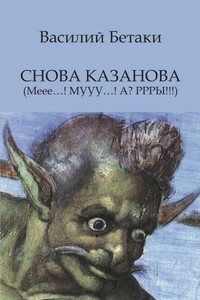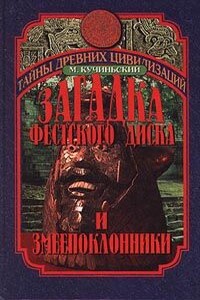Русская поэзия за 30 лет (1956-1989) | страница 24
потому, что это была настоящая поэзия:
Итак начинается песня о ветре,
О ветре, обутом в солдатские гетры,
О гетрах, идущих дорогой войны,
О войнах, которым стихи не нужны.
Идёт эта песня, ногам помогая
Как же получилось, что поэт такого размаха и такой музыкальной пронзительности превратился в газетного болтуна и штамповщика? Километры никому не нужных стихов? И это — после таких строк
(из той же поэмы):
Паровоз начеку
Ругает вагоны.
Волокёт Колчаку
Тысячу погонов,
Он идёт впереди,
Атаман удалый,
У него на груди
Фонари-медали,
Командир-паровоз
Мучает одышка…
Впереди откос…
Паровозу крышка.
А пока поручики пиво пьют,
А пока солдаты по-своему поют…
Потеря таланта в результате натужного сочинения заведомой лжи с карьерными целями — слишком простой случай. Для серого А. Прокофьева годится, а с Луговским было иначе. Он — один из немногих
искренне писал, веря каждой своей строке. Потому-то и получилась у него "Песня о ветре" с ее полифонией, с ее ухарской частушкой, с ее гармошечной, но истинной напряженностью. Оставим в стороне идеи, взглянем на мастерство поэта:
Но песня рычит, как биплан на Ходынке,
11о песня сошла с ума,
И даже на дряхлом Смоленском рынке
Ломает она дома!
Это тоже из стихов двадцатых годов.
Но посмотрим, что же вдохновляло Луговского, что самое главное в самом духе его стихов, что придает им силу — ответ будет однозначный: ярость, злоба, неистовство ради неистовства — даже не всегда ради идеи…
Политическое содержание уже потом вливалось в это весьма удобное вместилище.
Вот стихи 26 года, периода высшего расцвета поэзии Луговского:
Дорога идет от широких мечей,
От сечи и плена Иго рева,
От белых ночей (!?) малютиных палачей,
От этой тоски невыговоренной!
Речь тут идет ни мало ни много о том, «откуда есть пошла Россия!»
Поэт утверждает: от зла! И само Зло как идею делает поэт своим героем!
А затем и преклонение перед злой силой. Перед любой — лишь бы она подавляла величием, масштабами зла. Они и были главным вдохновляющим фактором для Луговского. Отсюда и упоенное самоуничижение личности приравнивается к подвигу. И неподдельный восторг раба перед господином слышен в концовке вот таких стихов:
И глухо стучащее сердце мое
С рожденья в рабы ей продано.
Ей, то есть родине!
Преклонением перед этой свирепостью хочет Луговской заразить читателя, и часто ему это удается: так искренне, так талантливо звучат его строки, полные пафоса. Только с запозданием понимаешь, что пафос его — страшен и нечист… Ненависть, разрушение — вот чем кормится его талант: