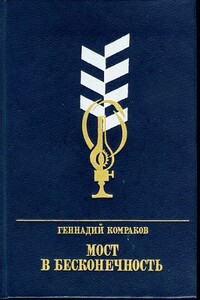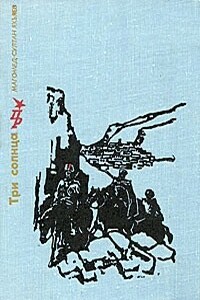Никогда никого не забуду. Повесть об Иване Горбачевском | страница 47
— Един? Я о нем иикогда не слыхал!
— В самом деле? А я думал, что уж рассказывал вам про него. О, это совсем другое! Бедного Илью Степановича Горбачевский больше всех любил. Да и мы тоже…
— Бедного? Почему?
— Так он же помер. Да, да, еще лет десять назад. В Италии. В Пизе, кажется. Воспаление легких, а там, глядь, и чахотка, прескверная штука, я вам скажу…
Это он мне, Кружовникову, говорит!
— …Словом, Илью Степановича Горбачевский из всех нас выделял. Даже поговаривали, будто Елин сын его незаконный был, только я-то верно знаю, что нет. Воспитанник — да, был. Иван Иванович его сам и в иркутскую гимназию подготовил, в четвертый класс. Потом уж Илья Степанович и в Москву уехал, в университет, по медицинской части пошел — наше горнозаводское ведомство его на пенсион определило. А там, вообразите, стал ассистентом у самого Боткина, только в Москве все-таки не остался, воротился сюда. К родным, если так выразиться, пенатам. И в заводском лазарете служил, с мужиками да с каторжными возился. Разве не благородно?
— Но ведь и вы же, Харлампий Романович, сюда вернулись.
— Ну, я… Я выше Нерчинска не летал и дальше Иркутска не метил, а покойный Илья… Но я отвлекся. Простите великодушно. Они с Горбачевским души один в другом не чаяли, однако, если уж дело до политики доходило, в Илью точно черт вселялся. Ваше, скажет, восстание не только было бесполезно, а и вредно. Да, да! Вы России один вред принесли!..
— Даже так?
— Вообразите! Если бы, говорит, вы Николая не напугали, он бы непременно реформы провел. Он бы крепостное право отменил, а вы мало того, что на него на всю его жизнь нагнали страху перед любой переменой, вы, говорит, заставили его вашу кровь пролить, а уж после этого царю пришлось жестокую роль доигрывать…
Тут я не утерпел:
— Экая, простите, чушь! Но уж вы-то, надеюсь, давали отпор?
Алексеев сконфузился:
— Как вам сказать… Бывало, и соберешься, и слова даже найдешь, но как Илья пойдет метать молнии… Только вы, может быть, подумали, что мы Ивана Ивановича не любили? Мы его очень любили. Чуть не молились. И он к нам был добр, особенно, конечно, к Елину…
Еще в Петербурге один старичок из породы вечнозеленых, благожелательный, благоухающий, благоустроенный, но непонятным мне образом прикосновенный к кругу самих «Отечественных записок», поведал следующее: будто сам Щедрин несколько лет назад подумывал написать рассказ, язвительного замысла которого не скрывал.
Сидит в Сибири кто-то из новых страдальцев — Чернышевский или, может быть, Петрашевский. А мимо него проезжают в Россию декабристы — прощенные и примиренные, благонамеренные и законопослушные. Едут и насвистывают: «Боже, царя храни». И еще его, нового, укоряют: «Как вам, дескать, не стыдно? Царь у нас такой добрый, а вы что же, милостивый государь, себе позволяете?»