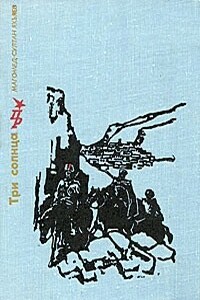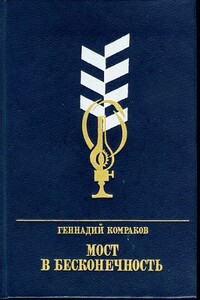Никогда никого не забуду. Повесть об Иване Горбачевском | страница 24
Оболенский в плаще, больше походящем на испанскую мантию.
Горбачевский в немыслимом архалуке — вылитый помещик-степняк, прокутивший даже борзых и любимого жеребца.
В таком живописном виде они ровно на тридцатый день ходу и подошли к Верхнеудинску, где в самом деле имели успех, способный родить уныние и зависть у бродячих комедиантов.
На подходе Лепарский забеспокоился. Громогласно было прочтено предписание коменданта, указывающее, как и в каком порядке следовать через город; солдатам велели прекратить добродушную болтовню с государственными преступниками и принять свирепый вид — свирепый, именно так приказ и гласил. Это уже подбодрило записных остроумцев и вызвало общий хохот, не умолкавший, пока они шли городом. Все забавляло: и лупоглазо-истуканий вид городской полиции, опасливо встретившей их перед входом, и давно ждущие под мелким и мерзким дождем толпы жителей, оцепенело взирающие на бунтовщиков (которые, слышно, собирались царя подменить), и чинный вид beau mond'a,[2] выстроившегося на балконе большого дома возле моста через Уду. Дамы, без сомнения, потратили на приготовления к этому параду все долгое утро; желая вознаградить их старания, Якубович послал одной, помоложе, поцелуй, и та кинула на соседок взгляд полководца, выигравшего решительное сражение.
Потом была Селенга с разными, но равно голыми берегами — одни песчаный, другой скалистый, — прельстившими тем не менее впоследствии братьев Бестужевых. Был староверческий Тарбагатай, вышедший навстречу им в праздничном облачении: синие кафтаны мужиков, бабы в шелковых сарафанах, в кокошниках, шитых золотом, — красивые, рослые, словно и вправду свободные люди. А ыа дневке в деревне Хара-Шибирь произошло великое событие, — вернее, долетела весть о нем.
Старик Лепарский самолично, как с докладом по начальству, явился в дом, где стояли Нарышкин и Волконский. Тяжелое багровое лицо было более непроницаемо, нежели когда-либо, усы закручены с сугубой официальностью, в выпуклых, точно у рака, глазах нельзя было прочесть ровно ничего.
— Господа! Считаю долгом известить вас…
И известил: в Париже революция. Тюильри в руках мятежников. Карл X скрылся в Сен-Клу.
Весть разнеслась мгновенно; все поздравляли один другого так, словно взят был не Тюильри, а Зимний дворец, не Бурбон бежал в загородный Сен-Клу, а Романов спрятался в Петергофе и завтра же им всем объявят свободу. Вечером раздобыли у кого-то из женатых две бутылки шипучего, выпили по золотой капле за парижский июль тридцатого года и спели хором «Марсельезу», которую никак им не удавалось допеть в Чите.