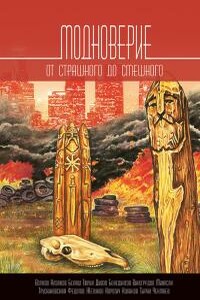Защита от дурака | страница 141
Я тупо уставился на него. Фашка?.. Да, Фашка.
— Фашка, говоришь?
— Так точно.
— Отпустить… Впрочем, нет. На воле ей теперь опасно. Пусть пока живет в неприсутственной части Оплота. Охранять. Лично отвечаешь за ее жизнь. И чтобы ей все необходимое.
— Как это благородно…
— Вот, вот… сообщи о моем благородстве прессе. А теперь — вон.
Я сходил еще к Чунче, справился о его здоровье. Увы, его легко ранили, в самом деле легко.
— Как неприкосновенные? — внезапно спросил я его.
— Они живы. Их стало даже больше. Вместо публично избираемых сотен — тысячи, если не миллионы.
— Вы сбиваете ракеты?
— Но осколки-то разносятся по вселенной!
— Вот и ладно… — сказал я, покидая безмерно удивленного Чунчу.
Светило понурилось, Нет, мне здесь не жить — блохе неловко на лысом месте.
Я не смог, может быть, не успел, поведать, как я стал Незыблемым. Зачем? Да и нет сил.
Когда, при Пиме, я ратовал за учреждение касты неприкосновенных, я смутно предвидел и свою победу в путче, и свое нежелание писать правду — потом… все, все, предчувствовал… даже то, что я их разгоню… и не без умысла создавал эту касту крепкой… И теперь то, что я, за неимением времени и желания, не дописал, вы прочтете в докладах неприкосновенных. Рано или поздно их заметки соберут… ужасный момент… лучше не думать о нем.
Прощайте. Надеюсь, одной ампулы хватит.
Я искренне хотел…. ну да что там теперь оправдываться. Я освобождаю вас от себя.
Вы свободны. Дурака больше нет.
Меня во мне не было: я тщательно собирался в одну точку, и эта точка, дрогнув, стала удаляться от меня, но я, оставшийся, даже не шевельнулся, чтобы возвратить себя удаляющегося, потому что главней теперь был тот, кто находился в болезненно пульсирующей точке, которая вдруг стала укрупняться, укрупняться — или, точнее, на нее словно вызырился глаз микроскопа, и она оказалась вселенной со всем множеством заключенных в ней смыслов, которые внезапно стали один за другим проясняться для меня, потому что я вышел из себя и пристально разглядывал себя для того, чтобы единство меня распалось на крупицы, и эти крупицы можно было бы прощупать, разделив на то, что находилось во мне от рождения, от тех клеточек матери и отца, соединенных и взращенных в меня, и на то, что было от деревушки, спящей днем с открытыми ставнями, от бабушкиных сказок о Дураке, от дедушкиных фырканий, от ребячьих дразнилок, от Праздника взросления, от уксуса, пролитого Примечанием мне в мозг, от Фашки, кричащей: «Нет, не хочу!», от кичащейся своей серьезностью Агломерации, от скрытности Джеба и пугливого героизма Пима, от горечи правды и от сладости лжи, от восстаний и путчей, от объятий Додо и плевка Фашки, от банальной шлюхи, ставшей моей женой, и от пустодума Брида, ставшего моей совестью, — от всех тех впечатлений, которые бурлили во мне, не сливаясь в единое течение, и только издалека меня можно было принять за личность, тогда как я был свалкой, куда каждый бросал свои мнения, суждения, выводы, вопросы и ответы.