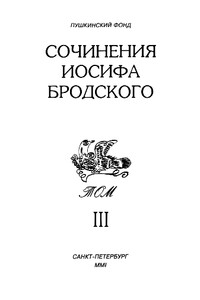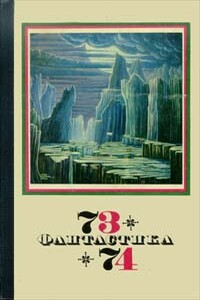Том 6. Эссе из сборника «On Grief and Reason» | страница 76
Но история не сила природы, хотя бы потому, что ее оброк обычно гораздо выше. Соответственно, и застраховаться от истории нельзя. Даже чувство опасности, воспитанное в народе веками гонений, оказывается паршивой страховкой; ее средств было недостаточно, по крайней мере для Deutschebank. Претензии, предъявленные доктриной исторического детерминизма и опирающейся на религию верой в общую благожелательность Провидения, могли быть удовлетворены только человеческой плотью. Исторический детерминизм превратился в приговор об истреблении; а представление о благожелательности Провидения # в терпеливое ожидание штурмовиков. Не лучше ли было бы получить меньше благ от цивилизации и стать кочевником?
Мертвые сказали бы «да», хотя нельзя за это поручиться. Живые, конечно, закричат «нет!». Этическую двусмысленность последнего ответа можно было бы замазать, если бы в его основе не лежало ложное представление, будто случившееся в Третьем рейхе было уникально. Не было. То, что в Германии заняло двенадцать лет, в России продолжалось семьдесят, и потери — среди евреев и неевреев — были почти в пять раз больше. При небольшом усилии можно, по-видимому, установить такое же соотношение для революций в Китае, Камбодже, Иране, Уганде и т. д.: в подсчете людских потерь их этническая принадлежность роли не играет. Но если мы не склонны продолжать эту линию рассуждений, то потому, что сходство до неприятности очевидно, и еще потому, что слишком легко впасть в общую методологическую ошибку, выводя из этого сходства некий общий закон.
Боюсь, единственный закон истории — это случай. Чем более упорядочена жизнь общества или индивидуума, тем меньше внимания уделяется случаю. Чем дольше это продолжается, том больше накопленный массив игнорируемого случая и тем вероятнее, думается, что случай свое возьмет. Не следует приписывать свойство человека абстрактной идее, но «Помни, что огонь и лед / Не больше чем в шаге / От города умеренных широт, который / Лишь мгновенье для обоих», — сказал поэт, и мы должны внять этому предостережению, сейчас, когда этот город умеренности слишком разросся.
Оно ближе всего подошло к постижению законов истории. И если истории суждено попасть в разряд науки, чего она страстно желает, ей следует знать природу своего предмета. У истины о вещах, буде таковая существует, есть, по-видимому, очень темная сторона. Учитывая, что человек по своему статусу — новоприбывший, то есть что мир возник раньше его, истина о вещах может быть лишь нечеловеческой. Так что любое исследование такой истины равносильно упражнению в солипсизме, только с разной степенью интенсивности и усердия. В этом смысле научные открытия, свидетельствующие о человеческой незначительности (не говоря уже о языке, на котором они преподносятся), ближе к такой истине, чем выводы современных историков. Возможно, изобретение атомной бомбы к ней ближе, чем изобретение пенициллина. Возможно, то же относится и к любой форме поощряемого государством скотства, особенно к войнам и политике геноцида, равно как и к стихийным национальным и революционным движениям. Без понимания этого история останется бессмысленным сафари для историков теологического склада и для теологов со склонностью к истории, наделяющих свои трофеи человеческим подобием и божественным предназначением. Но гуманитарная природа исследования, по-видимому, не делает его предмет гуманным.