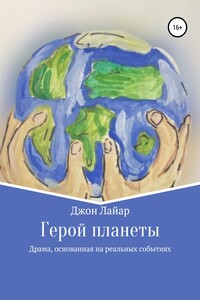Том 7. Эссе. Статьи. Пьесы | страница 83
Вдобавок ко всему, теперь я у них гостил. Само собой, я о каждом хотел узнать все и немедленно. Две самые интересные вещи на этом свете, как заметил однажды Э. М. Чоран,— это сплетни и метафизика. Можно продолжить, что и структура у них сходная: одно легко принять за другое. Им и был отдан остаток вечера, благодаря свойствам жизни тех, о ком я выспрашивал, и благодаря цепкой памяти моего хозяина.
Которая, разумеется, снова навела меня на мысль об Ахматовой, тоже имевшей поразительную способность ничего не забывать: даты, топографические детали, имена и анкетные данные людей, их семейные обстоятельства, кузенов, племянников, племянниц, вторые и третьи браки, происхождение их жен и мужей, партийную принадлежность, когда и кем издавались их книги и, в случае печального конца, кто именно на них донес. Она тоже могла по первому требованию сплести широкую, паутинную, осязаемую ткань, и даже тембр ее низкого монотонного голоса был сродни звучавшему теперь в библиотеке «Атенеума».
Нет, человек напротив меня Энеем не был, так как Эней, я думаю, ничего не помнил. Да и Ахматова не годилась в Дидоны, чтобы погибнуть всего от одной трагедии, умереть в пламени. Кто бы описал его языки, позволь она себе это? С другой стороны, действительно есть что-то от Вергилия в способности помнить не только свою жизнь, в пристальном внимании к чужим судьбам, и это свойство не одних поэтов.
Но, опять-таки, ярлык философа я не мог бы прикрепить к сэру Исайе, поскольку тот изувеченный экземпляр «Четырех статей» был скорее следствием физиологического отвращения к жестокому веку, чем философским трактатом. По той же причине и историком идей я бы его не назвал. Для меня его слова всегда звучали как вопль из чрева чудовища, скорее как крик помощи, чем о помощи — нормальный ответ ума, обожженного и исполосованного настоящим, которого он никому не желает в качестве будущего.
Кроме того, в стране, из которой я приехал, «философия», в общем, считалась бранным словом и включала понятие системы. К «Четырем статьям» располагало то, что они никакой системы не выдвигали, поскольку «свобода» и «система» суть антонимы. Что касается нахальной увертки, будто отсутствие системы тоже своего рода система, то я абсолютно уверен, что с этим силлогизмом я бы ужился, не говоря уже о такой системе.
И я помню, как, пробираясь по той книге без обложки, я часто останавливался, чтобы воскликнуть: как по-русски! При этом я имел в виду не только аргументы автора, но и способ их подачи: нагромождение придаточных, отступления и вопросы, прозаические каденции, отдававшие сардоническим красноречием лучшей русской литературы XIX века.