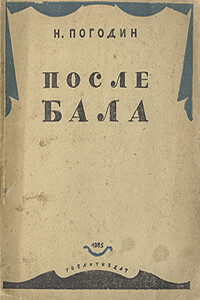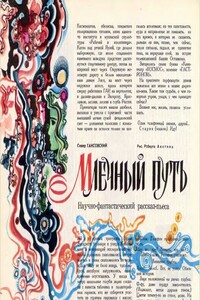Том 7. Эссе. Статьи. Пьесы | страница 66
О каком, действительно, Севере—Юге может рассуждать чех (Польша? Германия? Венгрия?). Как бы трагично, тем не менее, ни было представление о мире, разъединенном подобным образом, оно не лишено определенного мыслительного уюта. А именно: оно предлагает чрезвычайно комфортное, по принципу парности, разделение на: чувство—рассудок, Достоевский—Дидро, мы—они и т. д. Что, в свою очередь, заставляет индивидуума сделать выбор. Процесс выбора, как правило, драматичен и опасен; человек, сделавший выбор, имеет все основания считать себя героем. Вся загвоздка в том, что сам по себе выбор этот крайне ограничен. В полном соответствии с природой тамошних краев это вопрос: или—или.
Подобный выбор часто оказывается самым значительным событием в жизни индивидуума, и, обрастая ракушечником последующих умозаключений, он превращается в субстанцию настолько существенную, что первоначальная скудость вариантов забывается. Содеянный под давлением обстоятельств, ограниченный выбор этот как бы служит эхом архитипической человеческой ситуации вообще. Ничего дурного в этом, возможно, и не стоило бы усматривать, если бы тем самым не навязывалось заниженное представление о человеческом потенциале, свойственное любому ограниченному выбору,— что, скорее всего, и является главной причиной, по которой его предлагают. Запамятовав о таковой возможности, индивидуум начинает настаивать на тех выводах, к которым привел его собственный опыт, отрицая или сбрасывая со счета более всеобъемлющее, более великодушное и более широкое представление о человеке.
Такова, мне думается, суть предубеждения Милана Кундеры по отношению к Достоевскому. Идея уравновешивания эмоций рациональной мыслью представляется, исходя из этого, условной, а то и вовсе лишней, поскольку идею, такового определения заслуживающую, признают — и оценивают — качеством реакции на нее. Если у литературы и есть общественная функция, то она, по-видимому, состоит в том, чтобы показать человеку его оптимальные параметры, его духовный максимум. По этой шкале метафизический человек романов Достоевского представляет собой большую ценность, чем кундеровский уязвленный рационалист, сколь бы современен и сколь бы распространен он ни был.
Вины Кундеры в этом нет, хотя, конечно, ему следовало бы отдавать себе в этом отчет. Масса вещей обусловливает образ мысли этого чешского писателя, оказавшегося в положении vis-a-vis по отношению к Достоевскому. Прежде всего, его долгое пребывание на суровой эстетической диете, сказывающееся в нарочито частом использовании эротики в качестве исчерпывающей метафоры к тому, что человеком руководит. Как бы парадоксально это ни звучало, подлинному эстету не пришло бы в голову задумываться о проблеме выбора при виде иностранных танков, ползущих по улице; подлинный эстет способен предвидеть — или предугадать заранее — вещи такого рода (тем более в нашем столетии).