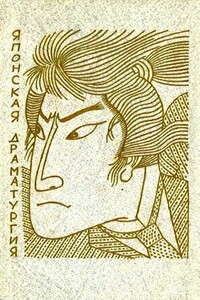Том 7. Эссе. Статьи. Пьесы | страница 43
Я не претендую на объективность, мне даже представляется, что объективность есть некий сорт слепоты, когда задний план и передний решительно ничем друг от друга не отличаются. В конце концов, я полагаюсь на добрые нравы свободной печати, хотя свобода слова, как и всякая благоприобретенная, а не завоеванная свобода, имеет свои теневые стороны. Ибо свобода во втором поколении обладает достоинством скорее наследственным, чем личным. Аристократия, но обедневшая. Это та свобода слова, которая порождает инфляцию слова.
Тут, конечно, есть и свои плюсы. Такая свобода, во всяком случае, дает возможность взглянуть на вещь со всех возможных точек зрения, включая и абсолютно идиотическую. Решение, которое мы примем, таким образом гарантировано от каких-либо упущений. Но чем больше обстоятельств и точек зрения мы учитываем, тем труднее нам это решение принять. Дополнительные реалии, как и дополнительные фикции, возникающие при инфляции слова, засоряют наш мозг и, начиная жить собственной жизнью, зачастую затмевают подлинное положение вещей. В результате возникает не свобода, но зависимость от слова. Соляному столбу, впрочем, обе эти вещи — рабство или свобода — не угрожают.
Я покинул Россию не по собственной воле. Почему все это случилось — ответить трудно. Может быть, благодаря моим сочинениям — хотя в них не было никакой «contra». Впрочем, вероятно, не было и «рго». Было, мягко говоря, нечто совершенно иное. Может быть, потому что почти всякое государство видит в своем подданном либо раба, либо — врага. Причина мне неясна. Я знаю, как это произошло физически, но не берусь гадать, кто и что за этим стоит. Решения такого сорта принимаются, как я понимаю, в сферах довольно высоких, почти серафических. Так что слышен только легкий звон крыльев. Я не хочу об этом думать. Ибо все равно, по правильному пути пойдут мои догадки или нет, это мне ничего не даст. Официальные сферы вообще плохой адрес для человеческих мыслей. Время тратить на это жалко, ибо оно дается только один раз.
Мне предложили уехать, и я это предложение принял. В России таких предложений не делают. Если их делают, они означают только одно. Я не думаю, что кто бы то ни было может прийти в восторг, когда его выкидывают из родного дома. Даже те, кто уходят сами. Но независимо оттого, каким образом ты его покидаешь, дом не перестает быть родным. Как бы ты в нем — хорошо или плохо — ни жил. И я совершенно не понимаю, почему от меня ждут, а иные даже требуют, чтобы я мазал его ворота дегтем. Россия — это мой дом, я прожил в нем всю свою жизнь, и всем, что имею за душой, я обязан ей и ее народу. И — главное — ее языку. Язык, как я писал уже однажды, вещь более древняя и более неизбежная, чем любая государственность, и он странным образом избавляет писателя от многих социальных фикций. Я испытываю сейчас довольно странное чувство, делая язык объектом своих рассуждений, глядя на него со стороны, ибо именно он обусловил мой несколько отстраненный взгляд на среду, социум, то есть то качество зрения, о котором я говорил выше. Разумеется, язык сам испытывает некоторое давление со стороны среды, социума, но он — чрезвычайно устойчивая вещь; ибо, если бы язык, литература зависели бы от внешних факторов, у нас давным-давно не осталось бы ничего, кроме алфавита. И для писателя существует только один вид патриотизма: по отношению к языку. Мера писательского патриотизма выражается тем, как он пишет на языке народа, среди которого он живет. Плохая литература, например, является формой предательства. Во всяком случае, язык нельзя презирать, нельзя быть на него в обиде, невозможно его обвинять. И я могу сказать, что я никогда не был в обиде на свое отечество. Не в обиде и сейчас. Со мной там происходило много плохого, но ничуть не меньше — хорошего. Россия — великая страна, и все ее пороки и добродетели величию этому более или менее пропорциональны. В любом случае, размер их таков, что индивидуальная реакция адекватной быть не может.