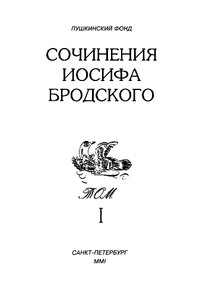Том 7. Эссе. Статьи. Пьесы | страница 41
Остальное в «Судьбе Пушкина» довольно верно. Я имею в виду самое существенное: фантазию В. С. по поводу «счастливого» исхода дуэли. Да, это была бы жизненная катастрофа. Можно еще добавить, что в случае «счастливого» исхода, т. е. смерти Дантеса, А. С. имел бы и еще один ужас: кем бы он был в глазах своей жены? Убийцей ее возлюбленного. Уравновесила ли бы «сохраненная честь» ненависть жены? Едва ли. И едва ли можно сомневаться, что за убийство иностранца А. С. был бы сослан, лишен прав и т. д. И, конечно, «дарить миру новые светлые произведения» было бы затруднительно, и В. С. более или менее прав, осуждая ту часть публики, которая превращает великого человека в своего маленького идола. Все это верно, и, наверно, пришлось бы уйти в монастырь или принять другую какую схиму, и, конечно же, в три дня умирания произошел духовный перелом и ангелы получили то, что им требовалась. Но есть одно обстоятельство.
Для человека «той высоты духа, какую он (А. С.) явил в „Пророке" и в „Отцах-пустынниках", счастливый исход обернулся бы, конечно же, жизненной катастрофой. В любом случае на душу был бы взят грех убийства». Но так ли верно утверждение В. С. насчет невозможности новых светлых произведений? Начнем с конца. Почему именно светлых? Видимо потому, что, во-первых, раньше были «светлые» (о чем мы сейчас спорить не будем, а так и примем); во-вторых же, потому, что эстетика энциклопедиста требует именно «светлых». А что если жизненная катастрофа дала бы толчок к созданию «темных»? Тех «темных», которые возникли в нашем, богатом жизненными катастрофами, столетии? В том-то все и дело, что христианский мыслитель был сыном своего века, последнего века, рассчитанного на гармонию, века, рассчитанного на «светлые» произведения, века, отвергнувшего или — скорее всего — пропустившего при чтении слова Иова: «ибо человек рождается на страдание, чтобы, как искры, взлетать вверх». Как знать, не стал бы наш первый поэт новым Иовом или поэтом отчаяния, поэтом абсурда — следующей ступени отчаяния? Не пришел ли бы и он к шекспировской мысли, что «готовность — это все», т. е. готовность встретить, принять все, что преподносит тебе судьба? Об этом, конечно, можно только гадать, да и гадать-то особенно не хочется. Эти домыслы возникли только в результате приговора нашего христианского мыслителя, гласящего, что «...никакими сокровищами он больше не мог обогатить нашу словесность». В общем, жизнь, отдаваемая на суд энциклопедиста, не должна быть короткой. Или не должна быть жизнью поэта.