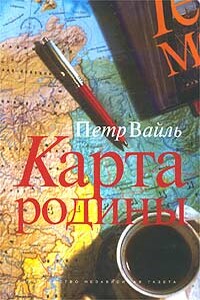Чтение. Письмо. Эссе о литературе | страница 24
Стихотворение Фроста, напротив, состоялось только благодаря событию, предварившему появление слов; именно событие является причиной стихотворения Фроста, конечная цель которого — мудрость. И хотя элемент блестящей словесной отделки присутствует в нем, — в конце концов, это стихотворение, а не инструкция, — он подчиняется содержанию, которое оформляет.
Если кто-то вдруг попросит меня привести пример хорошей поэзии, первое, что придет мне в голову, будет поэзия в духе Пиля. Но если мои чувства эмоционально окрашены — будь то печаль или восторг, — если в этот момент я подумаю о стихах, созвучных моим чувствам, я, безусловно, вспомню Фроста.
Шекспир говорит нам, что Ариэль бесстрастен. Вот причина его побед и поражений! Ибо земной рай, конечно, место отличное, но там, увы, никогда не происходит ничего сколько-нибудь значительного.
Если Ариэль составит антологию излюбленных стихотворении, в ней, безусловно, окажутся «Эклоги» Вергилия, «Одиночество» Гонгоры и несколько поэтов вроде Кэмпиона, Геррика, Малларме, — но продолжительное чтение подобной антологии очень быстро утомило бы нас однообразием и скудостью ощущений, поскольку второе имя Ариэля — Нарцисс.
Бывает, впрочем, и так, что стихотворение, написанное под влиянием Просперо, становится через пару поколений текстом Ариэля. Кто знает, может быть, колыбельная «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю» была поэтической памяткой некоего предания самого сокровенного свойства. То, что мы приписываем эту песенку Ариэлю, означает, возможно, наше элементарное неведение относительно ее действующих лиц: мы размышляем о «сером волчке» скорее как натуралисты, а не как поэты. С другой стороны, для более полного понимания «Божественной комедии» Данте нам необходима именно конкретная информация о людях, в ней упомянутых.
Часто сам автор не в состоянии определить характер собственного произведения — «Lycidas», например, кажется нам созданием Просперо, поскольку речь в нем идет о самых серьезных вещах — о смерти, скорби, грехах. При ближайшем рассмотрении, однако, я нахожу, что в нарядах Просперо скрывается все тот же Ариэль, нацепивший чужие одежды для собственного развлечения. Поэтому в данном случае вопрос: «Кто таков Пилат Галилейский?» — так же бессмыслен, как вопрос: «Кто таков Иван, родства не помнящий?» И Тот, Кто шел по водам, останется для Ариэля сельским пастухом, чье имя случайно оказалось «Христос». Если читать «Lycidas» под этим углом зрения, — как читаем мы Эдварда Лира, — оно, безусловно, будет одним из самых замечательных произведений, когда-либо написанных на английском. Но если оценивать его с позиций Просперо, придется — вместе с доктором Джонсоном — осудить его за бессвязность мысли и развязный тон там, где читатель готов воспринимать поучения и откровения и где он не получает ни того, ни другого.