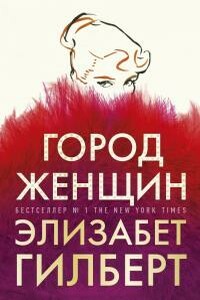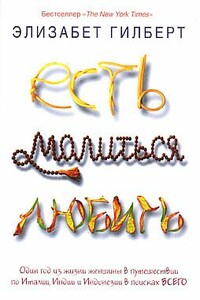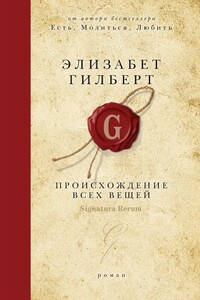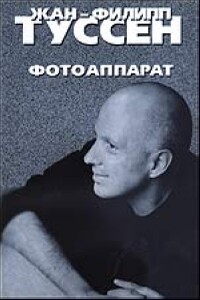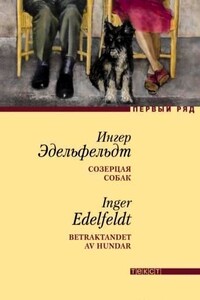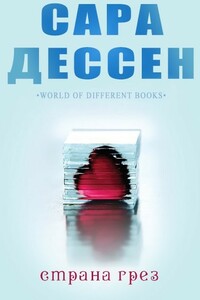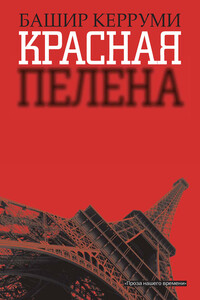Законный брак | страница 39
Поэтому, когда современные религиозные консерваторы заводят ностальгическую волынку о том, что брак – священная традиция, уходящая в историю на тысячи непрерывных лет, они абсолютно правы, но лишь в одном случае – если речь идет об иудаизме.
В христианстве попросту не существует глубокой и непрерывной традиции почитания брака. В последнее время она появилась, но ее не было с самого начала. Первые тысячу лет христианской истории моногамный брак в глазах Церкви был, конечно, чуть лучше откровенной проституции, но в том-то и дело, что лишь чуть. Святой Иероним дошел до того, что составил шкалу человеческой святости от одного до ста баллов, в которой девственники удостаивались высшего балла, вдовы и вдовцы, вновь принявшие целибат, – шестидесяти, а супружеские пары, как ни удивительно, греховного результата в тридцать очков. Шкала была полезной, но даже сам Иероним признавал, что у подобных сравнений есть свои пределы. Строго говоря, писал он, нельзя даже сравнивать девственность и брак, как «нельзя сопоставлять две вещи, если одна из них – добро, а другая – зло».
Как только мне попадается такое высказывание (а в раннем христианстве их пруд пруди), я сразу вспоминаю своих друзей и родственников, которые считают себя христианами, но, несмотря на все старания вести безупречную жизнь, все-таки оказались в разводе. Годами я видела, как эти добрые, этичные люди совершенно убивают себя чувством вины, будучи уверенными в том, что нарушили самую священную и древнюю христианскую заповедь – не выполнили супружеский обет. Я и сама попалась в эту ловушку, когда разводилась, а меня ведь не воспитывали в духе фундаментализма. (Мои родители были в лучшем случае «умеренными» христианами, и никто из моих родственников не корил меня, когда я разводилась.) И всё равно, когда мой брак рухнул, я провела не поддающееся исчислению количество бессонных ночей, терзаясь вопросом: простит ли меня когда-нибудь Бог за то, что я ушла от мужа. Еще долго после развода меня преследовало неотступное ощущение, что я не только потерпела неудачу, но и – почему-то – согрешила.
Подобные комплексы вины лежат глубоко, их не исправить в одночасье. Но я не могу не признать, что в те месяцы адских моральных терзаний мне было бы полезно знать кое-что о той враждебности, которая веками окружала брак в христианстве. «Сбрось с себя груз мерзостных семейных обязанностей!» – проповедовал английский священник в шестнадцатом веке, разбрызгивая слюну и отрекаясь от того, что ныне мы бы назвали семейными ценностями. «Ведь под ними скрывается ужасный, рычащий и острозубый оскал лицемерия, зависти, злобы, дурных намерений!» А вот сам святой Павел в знаменитом письме коринфянам: «Не следует мужчине касаться женщины». Никогда, ни при каких обстоятельствах, считал святой Павел, не следует мужчине касаться женщины – даже если речь идет о собственной жене. Если бы Павел добился своего, по его собственному признанию, все христиане приняли бы обет воздержания, как он. («Хотел бы я, чтобы все мужчины были чисты, как я».) Но, будучи рациональным человеком, он понимал, что планка высоковата. Поэтому требовал, чтобы христиане