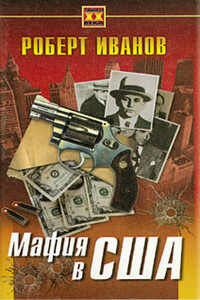День Литературы, 2011 № 03 (175) | страница 37
Мураками – японский литвыродок. Он выродился и выпал из японской изысканой этнокультуры, заразившись бациллой американизма. Эта бацилла и тотальный патронаж янки-кукловодов сделали из даровитого японца мировую величину, космополита и гражданина мира, в котором практически сопрели национальная эстетика, традиции и историческая культура. Для традиционного японского эстетизма такой интеряпонец (или гражданин мира) ощутимо "пахнет маслом". Здесь любопытный физиологический артефакт: у большинства японцев нет фермента, переваривающего молоко. И отношение к молоку у таких антимолочников, мягко выражаясь, брезгливое. Тем более, к экстракту молока – маслу. Здесь просто вкусовая ненависть. Хипповый япончик, косящий под Америку (а таких здесь всё больше среди молодежи), для традиционно-национального японца всегда дурно "пахнет маслом".
Теперь вдумайтесь, что означает ярлык, прилепленный читающими японцами-интеллектуалами к Мураками: "Бата-Кусай". В переводе это "Нестерпимо воняющий маслом".
В прозаическом стиле Мураками без труда улавливается некий оскоплённый гибрид из Ремарка, Хэмингуэя и Фицджеральда – упругий, жёсткий слог, ковбойская непритязательность смысловых блоков, взрывная афористичность. За всем этим чувствуется зрелый, набухший тугой кровью мастер пера, который с нахрапом насильника то и дело прорывает этическую плевру мировых литканонов.
Тексты Мураками нафаршированы опорожнением мочевого пузыря, физиологией случек, банками пива, сигаретным дымом, чашками кофе, треском из кабин биотуалетов, вонью от старой маразматической кошки, с её привычкой выблёвывать твёрдую пищу.
"Жила была Девочка, Которая Спала С Кем Ни Попадя. Вот как её звали… ещё в девичестве она завела толстую школьную тетрадь, где производила скрупулёзный учёт и описание всех своих менструальных циклов. Таких тетрадей у неё было восемь".
Сдержав рвотный позыв, ломишься сквозь текст дальше.
"Китовый пенис не был похож ни на мой пенис, ни на чей-либо, из всех, мною увиденных. Он торчал из бытия музея и смахивал на раритет из песков Средней Азии".
Этот реликтовый орган загадочно принизывает главу за главой романа, чтобы необъяснимо и бесследно исчезнуть в конце книги.
"Кто-то сзади вдруг громко испортил воздух. Две пигалицы в школьной форме громко прыснули в кулачки. Поцелуи с обжиманиями в углу справа становились всё откровеннее, пока не перешли в конечную фазу. Я не нашел ничего лучшего, чем заняться с моей подругой сразу конечной фазой. В темноте многие парочки точно так же занимались любовью".