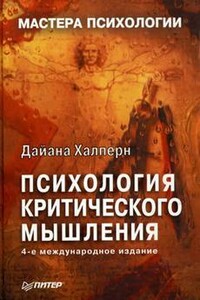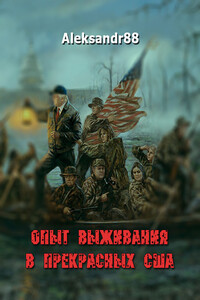О двух типах художников | страница 27
Даже в серьезнейшем из случаев, какие себе можно вообразить, ценность подобной "самокритики" весьма проблематична. Она бесплодна; она не выходит за пределы стихии империалистического общества и даже содействует усилению ее влияния, приучая к мнимой сознательности и мнимой критике.
Гуго фон Гофмансталь дал шедевр такой ложной самокритики в рассказе-эссе, написанном в форме письма от лорда Чендона к Бэкону Веруламскому. Лорд анализирует свое странное душевное состояние (удивительно похожее на переживания декадентов XX века). Он рассказывает, что все больше утрачивает связь вещей, что для него стала невыносимой какая бы то ни было обобщающая абстракция, что его чувство противится общению с людьми и он все больше впадает в равнодушие, в апатию. Только чисто случайные предметы — отравленная крыса, лейка под орешником и т. п. — его опьяняют и резко вырывают его из состояния душевной смерти. Внезапно он чувствует, по ту сторону слов и понятий, неземной ужас; и опять, до следующего взрыва, погружается в дремоту.
Гофмансталь изображает лорда Чендона, как человека гибнущего и сознающего свою гибель. Но это сознание, не вполне честно. Остается невыясненным, не являются ли нервические пароксизмы Чендона чем-то высшим в сравнении со строем чувства "обыкновенных людей". Читая критические этюды самого Гофмансталя, мы в них найдем образцы произведений, дающих надежду на спасение искусства: новеллы Вассермана, картины Ван-Гога. Ясно, что вся "критика" Гофмансталя прославляет тип декадента как вершину утонченности и мудрости.
Оживление, превосходящее меру, или мертвенность — так пророчески определил Гете вырождение, охватившее искусство в XX веке. Мы думаем, что не изменим основному смыслу этих слов, если скажем, что обе противоположности соединились в декадансе буржуазного искусства настолько, что трудно проследить, где они переходят друг в друга. Нет лучшего способа охарактеризовать "чендонизм", как просто повторить слова Гете.
Мы снова пришли к тому, о чем говорили вначале: экзальтация и отупение — это общие психологические черты, сопутствующие привычке к бесчеловечности последнего периода капиталистического упадка, — привычке, отвечающей классовым интересам буржуазии. Бессодержательное возбуждение не только не нарушает болотной неподвижности привычки, но еще ее и поддерживает. Чем "возвышенней" мнимые взлеты, чем "критичнее" аллюры мнимого "борца с мещанством", тем хуже; независимо от желания отдельных художников, все эти "бунтарские" эксцессы упадочного искусства входят в систему тех явлений, которые служат защите империализма от угрозы со стороны трудящихся масс. В стихийной основе, из которой вырастает это искусство, содержатся в зачатке оппозиционные или даже революционные настроения. Но в том случае, когда искусство продолжает оставаться на почве стихийности и пытается оправдать стихийность теоретически, образно или "критически", перед ним нет иной перспективы, как монотонная и бесплодная смена истерии и отупения.