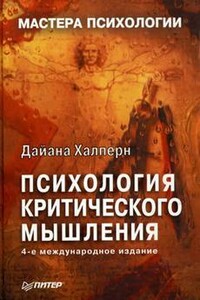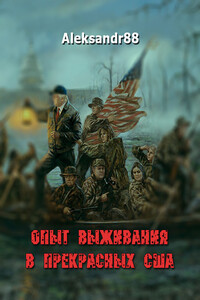Готфрид Келлер | страница 3
Но чем дальше, тем меньше удовлетворял этот стиль; по мере созревания объективных предпосылок для буржуазно-демократической революции, в немецкой литературе усиливалось тяготение к реализму английскому и французскому. Когда Гейне говорил о «конце эстетического периода» в Германии, он, без сомнения, имел а виду это новое направление развития литературы.
Правда, неизжитая экономическая и социальная отсталость сильно сказывалась еще и в литературе 30-х и 40-х годов: романы Иммермана, например, в большей мере относятся к распаду «эстетического периода», чем к новому реалистическому искусству. Этот пример показателен потому, что Иммерман сознательно и энергично работал в направлении нового реализма; его «Оберхоф», открывал немецкой литературе новые пути. Но поэтические обобщения Иммермана слишком фантастичны и бедны, — и это верный признак того, что писатель еще не мог реалистически подойти к изображению конкретных социальных проблем современности.
Поражение революции 1848–1849 годов повлекло за собой не только гибель старых традиций немецкой классической философии и литературы, но и раннее увядание тех здоровых ростков новой культуры, которые появились во всех областях духовной жизни в годы революционного подъема. Так, учение Людвига Фейербаха, было для Германии не началом возрождения буржуазной философии, но концом ее классического периода. И это объясняется не слабостью учения Фейербаха, а слабостью немецкой демократии. Лучше всего об этом свидетельствует судьба фейербахианства в России, где оно стало исходным пунктом нового расцвета общественной мысли.
Капитуляция немецкой буржуазии наложила свой отпечаток на все дальнейшее развитие страны и ее культуры. С реакции 1849 года начался роковой раскол, не изжитый немецкой литературой вплоть до XX века.
С одной стороны, возникла литература, находящаяся непосредственно под влиянием развивающегося капитализма. Эта линия ведет от Гуцкова, через Фрейтага и Шпильгагена, к пустым и плоским берлинским романам Пауля Ландау. Поскольку эта литература примыкает к «идеологии компромисса», она проходит мимо всех действительно глубоких национальных и социальных проблем. Эта литература имела успех у современников, и случалось, что даже выдающиеся революционные демократы оценивали ее не по заслугам высоко. Но успех этот был недолог; вскоре выяснилось, что «социальность» Шпильгагена и других была очень поверхностной, далекой от жизни и интересов народа.