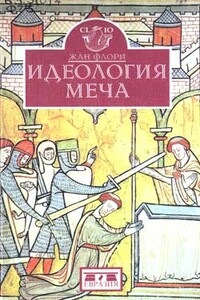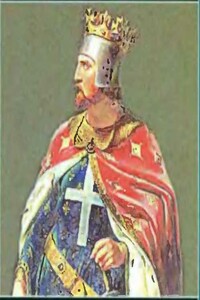Повседневная жизнь рыцарей в Средние века | страница 48
Такой ценой обеспечивались преемственность и целостность фамильного домена. Цена эта была высока во многих отношениях. Младшие в семье (речь пойдет о тех из них, кто предпочитал не постригаться в монахи), лишенные собственных доменов, жили при дворе своего старшего брата, еще чаще, своего дяди или более отдаленного родственника, «кормились» за столом своего благодетеля и обретались в его доме на положении слуг, что приближало их к положению вассалов или, даже скорее, вооруженной челяди; не имея возможности обзавестись законной женой, они были вынуждены довольствоваться при этих дворах случайными любовными связями, плодили бастардов, в жилах которых «благородная» кровь разбавлялась неблагородной и рисковала быть заглушённой ею вовсе.
Как раз в среде этих «молодых» (juvenes, bachelers>{18}) людей («молодых» — в смысле «неженатых»), неустроенных, жаждавших самоутверждения и респектабельности, мечтавших получить и то и другое вместе с рукой богатой наследницы, — именно в этой мутной и вечно бурливой (от несбывающихся надежд) социальной среде, как отмечают G. Duby и E.Köhler, и вызревали первые «рыцарские» идеологии, в которых обездоленные «молодые» бросали вызов своим отцам, родственникам и всем вообще богатым и благоустроенным. Разделяя тягостную зависимость и чаяния и другой части воинства, той, что не могла претендовать на благородное происхождение, «молодые» стремились к независимости, славе, приключениям, они призывали к отказу от ревности и к так называемой «куртуазной любви». Они восхваляли войну — для них выгодную вдвойне, так как она была источником и богатой добычи, и щедрости сеньора. К этой теме нам надлежит еще вернуться.