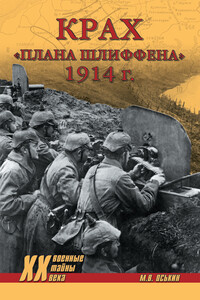Золото бунта, или Вниз по реке теснин | страница 41
Шакула отложил вентерь и взялся было за кожаный чулок на ноге, но Осташа замахал руками:
— Не надо мне твоей дырки!.. Тьфу, что за дрянь!..
— Ну, как хочешь, — немного даже огорчился Шакула. — Дырка большая, хорошая… Ладно, ладно, не покажу. А девочку я себе взял. Будет вместо дочки, решил. Жены-то мне не досталось. Когда молодой был, всех девок наших русские забирали. Хотели, видно, чтоб совсем мы кончились. Я думал, девчонка вырастет, мне внуков народит, учить стану… Ваш Пугач бешеный всю мою старость отравил хуже той ведьмы с Синего болота… Горе.
Шакула замолчал, глядя в землю, потом легко вздохнул и снова взялся за вентерь. Осташа знал, что за беду принес вогулу Пугач. Вся Чусовая знала о той беде, и многие мужики ей пользовались. Осташа снова ухмыльнулся, но уже недобро. Шакула этого не видел.
— А где же Бойтэ прячется-то? — спросил Осташа, оглядываясь.
— Она не прячется. В чуме лежит. Она ж твоей болезнью болеет. Может, умрет.
— И не жалко тебе ее? — удивился Осташа.
— Как не жалко? — Шакула пожал плечами. — Жалко. Привык я, полюбил. Да что сделаю-то? Лечить не умею, а она на себя колдовать не может. Вот, жду, что будет, с тобой говорю.
— Пойдем, хоть глянем на нее, — предложил Осташа.
— Ну, пойдем.
Шакула встал и, слегка прихрамывая, повел Осташу к чуму. В чуме был полумрак, только из прорехи дымохода на стенку из оленьей шкуры падал столб света. Почти у стены на камнях курились угли прогоревшего костра. Было дымно и жарко. На земле валялась разворошенная гора лапника, а на лапнике, раскидав руки и ноги, отвернувшись, лежала в беспамятстве Бойтэ. Она была почти нагой, от пота мокрой и блестящей. Мокрые волосы облепили голову и плечи, мокрая черная тряпка плотно обвивала бедра.
— Привязал ее, чтобы на угли не скатилась, — пояснил Шакула, кивая на вбитый у входа колышек. От колышка тянулся ремень, накрученный на Бойтэ поперек живота.
Осташа стоял и жадно смотрел на голую, ничего не понимавшую девку-вогулку, которая заживо жарилась в огне его простуды. Ему немного жаль было ее, — наверное, куда меньше, чем Шакуле, — но жалость лизала душу где-то с самого края. Под ложечкой горячо запекло от другой мысли: вот девка, даже без рубахи, доступная, в забытьи, а значит, безответная, покорная, которая после и не вспомнит обиды… Да и вообще, обижается ли она?..
Но мысль эта была какая-то поганая, давила горло, словно сухой кус. Стыдно было бы бате признаться в такой мысли. Да что там бате — Никешке и то стыдно.