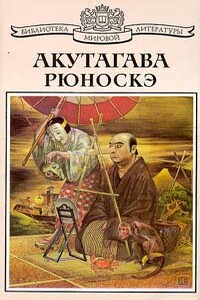За оградой | страница 25
Придет Ной на пустошь и не встретит Маринку — тотчас найдет себе новое занятие. Прежде всего груша. Это низкорослая, глубокая старуха, согбенная и увечная: корни ее обнажились, ствол причудливо искривился и покрылся шишковатыми наростами. Тонкие, иссохшие ветви густо переплелись, и одряхлевшая груша едва выносит их тяжесть. Кажется, они оплели друг дружку, чтобы удавить или удавиться, а чуть коснется их ветер — мелкие листочки сухо лязгают, клацанье, словно крошечные жестяные мониста. Но несмотря ни на что, высохшая упрямица ни за что не желает помирать, не увядает — и все тут. Раз в несколько лет она еще находит в себе силы плодоносить. Вот и в нынешнем году не поддалась отчаянию убогая, а поднатужилась и выпустила из своих ветвей сотни две тщедушных груш. Эти-то груши и привлекли внимание Ноя, и в дни последнего летнего месяца элула, вплоть до самого осеннего новолетия, эти запоздалые первинки все до единой стали его добычей. Из-за близкой ограды синагогального двора сюда доносились дробные и заунывные звуки шофара, а Ной сидел себе в одиночестве на верху дерева и обрывал его жалкие плоды. Все они размером со стручок, тверды как кремень, а уж кислы — что ваш уксус. Даже соленый привкус есть в них, но это — дело поправимое: Ной зарывает их в сено на сеновале над конюшней, и там они преют и дозревают, а дозревая, делаются слаще…
Порой, когда он приходит на пустошь под вечер, а там пусто и жутко, и Маринки нету, — он укрывается в раскидистых душистых ветвях клена и потихоньку шарит в птичьих гнездах… Неожиданно он замечает перед собою заходящее солнце и залитое огненными потоками небо — и изумление перед Господом охватывает его. Молчаливо лежит он на толстой ветке, жмется щекой к прохладным широким листьям, приклоняет к ним голову, будто дремлет, и обращает разгоряченное лицо к закатному зареву. В такой час чудится ему, будто давным-давно он тоже рос на этом дереве, рос, как один из листьев… Он смежает веки и целиком скрывается в пышной листве дерева — и тут перед ним немедленно возникает отчетливый и ясный, зримый во всех подробностях образ одного вечера в деревне, где он родился. Он, мальчонка, прячется в кусте орешника у плетня. Края небес подобны пламенеющему костру. Весь мир рдеет и полыхает. Отцовский двор оделся в красное. Посреди двора стоит с десяток пунцовых коров, возле их расставленных ног — коленопреклоненные фигуры крестьянских девушек, босоногих, с оголившимися плечами и обнаженными по локоть руками. Из коровьих сосков в подставленные ведра с нежным, ласковым звуком — тззз, тззз — брызжут тонкие белые струйки. Белая пена на поверхности молока вздымается все выше. Пальцы чувствуют странный зуд, им хочется войти в нее, погрузиться в тепло… запах молока затопляет мир… Вдруг посреди двора возникает мама, лицо ее обращено к пламени, в одной руке у нее кувшин, а другою она прикрывает глаза от яркого света. Она вся пламенеет — и в бескрайнем пунцовом пространстве разносится ее призыв: «Но-о-й! Но-о-о-й!»