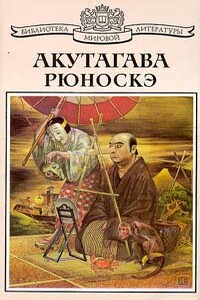За оградой | страница 24
— А в школу, — перебивает его шепотом Маринка, — ты больше не станешь ходить?
В школу?[6] Когда? Разве что будущей зимой. Теперь меламеды не хотят его принять, ей-Богу! И черт с ними! Мама думает, что он с ней станет обходить меламедов и умолять, чтоб его приняли. Дудки. Не на таковского напали! Он не пойдет ни за какие коврижки! И без того он стал притчей во языцех у всех своих бывших товарищей. А кто, она думает, виноват в этом? Рувим-Гирш! Этот пьяница не дает ему проходу. По субботам, когда он, Ной, с отцом приходит в синагогу, Рувим-Гирш натравливает на него своих учеников. «Печенка гусиная!» — вот как они его дразнят. Знает ли она кривого Камбалу? Нет, не знает? Другого такого подлеца трудно найти! Каждый раз, когда этот кривой проходит в синагоге мимо, он, Ной, просто кипит от бешенства. Он ему голову раскроит, ей-Богу! Тот проходит мимо с самым невинным видом, весь как будто погруженный в свой молитвенник, а на самом деле — чтоб у него второй глаз вытек! — только и думает, как бы наподличать. Пусть он только попадется ему в переулке, он ему второй глаз вырвет, ей-Богу! В будущую субботу он, Ной, уже больше не пойдет в синагогу, ни за что! Он придет сюда, на пустошь, искать гнезда и рвать груши…
— В субботу?
Ной немного смутился: нет, нет, он сказал это так, к слову. А впрочем — ну и что, что в субботу? По секрету, — она ж никому не расскажет? — когда он приходит в субботу в село, он там все делает,[7] он и Макарка…
— А что папа скажет?
Папа? Что ему сделает папа? Он ни о чем не знает. Он, Ной, сам себе голова. Завтра, например, они с Макаркой пойдут войной — и на кого, как она думает? На Рувима-Гирша с его учениками, ей-Богу! Те пойдут к речке купаться, а он и Макарка устроят засаду и, как только те разденутся донага, выскочат и натравят на них собак, ха-ха-ха, собак… Ой-ой-ой, какой гвалт подымется!..
— А ты, Мариночка, — спросил внезапно Ной, — не придешь в село? Дядя Серафим всегда о тебе спрашивает. Когда ты подрастешь и станешь работницей, он возьмет тебя к себе. Жалко ему тебя, — говорит он. — Старуха замучит тебя до смерти. Мариночка, пойдешь к Серафиму в работницы?
Маринка молчала.
— Отчего ты молчишь, Маринка? Ты избавишься от тетки и ее колотушек, я буду каждый день приходить к тебе в село. Хорошо? Скажи правду: хочешь, чтобы я приходил к тебе в село?
— Тогда и посмотрим, — отвечает Маринка, ласково шлепая его по щеке, а глаза ее сияют…
— Ура! — ликует Ной, вскакивает и взбирается на дуб; он хватает кудрявую ветку, трясет ее, и дождь желудей сыплется на землю. Свиньи с хрюканьем и визгом бросаются их подбирать, а Ной лезет все выше и выше, до самой макушки. Вся окрестность перед ним — видна, как на ладони. С одной стороны — слободские крыши, дворы с поленницами и базарная площадь, а с другой — разлинованные плетнями зеленые баштаны и желтые нивы, уходящие вдаль, на сколько хватает глаз… а вон там, там, совсем в отдаленьи, — село с белыми мазанками, с серебряной змейкой — речкой, а за речкой темнеет рощица…