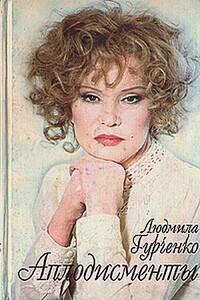Мое взрослое детство | страница 75
Когда папа и мама переехали ко мне в Москву, вскоре, если он выходил во двор, к нему со всех балконов и окон слетались все голуби и сопровождали его до самого парадного. А пока папа поднимался на лифте на пятый этаж, голуби уже сидели на балконе и ждали. Они свободно и беспрепятственно ходили по квартире. Всюду валялись перья, крошки хлеба, зерна...
— Мам! Когда он успел, вы же недавно здесь...
— Что ты, он так обрадовался, что во дворе голуби. В Харькове он все ходил на площадь Тевелева, кормил голубей, хотел приручить. Всю жизнь — кошки, собаки, голуби. Ой, что за человек...
Мы боялись заикнуться, что от голубей только грязь. «Якая грязь? А ты — хозяйка, возьми сама и вбери ету грязь (тут он букву «г» произносил твердо). Ето птица божеская...»
Когда в восьмом классе я учила из «Мертвых душ» «Тройку», — что было с папой! «Ах, ты ж, мамыньки родныи... Якой исключительно русской души етый Гогаль. Бьет наповал...» И я ему еще и еще раз читала: «Эх, тройка! Птица-тройка! Знать, у бойкого народа ты могла только родиться. В той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разлеглась на полсвета...» Он сидел на нашей кровати с шариками, держал в руках «Гоголя», весь светился. И мне казалось, что он делался выше, шире, еще могучее — как вся русская земля, а он горд, что родился и живет на этой земле. "Вот ето талант! Пишить просто, а душу жметь... Эх ты, Гогаль...»
После войны не было ни одного концерта, где бы артист, пионер, ремесленник не читал «Василия Теркина». Папа, в ожидании своей работы, сидел за кулисами, положив подбородок на баян, сосредоточенно слушал Твардовского... «Пап, ты уже должен наизусть это знать. Все реагируют, смеются, а ты сидишь такой грустный! Пап...» — «Ето великая вещь, дочурка. Ето настыящая правда про нашего брата-фронтовика...»
Когда папа смотрел военный фильм или фронтовую хронику, он сидел, вытянувшись к экрану, в напряжении все полтора часа. На других картинах смотрел по сторонам, ждал скорее надписи «конец фильма», раздражался: «Лель, чего они смеются, а? Ну, ничёгинька смешнога, а? Лель!» — «Потом расскажу — дома. Подожди ты, Марк...»
Мама злилась, что он ей не дал спокойно посмотреть картину, все время давил ей колено. Ну и что же, что давил? Что она, не привыкла, что ли? Всегда папа, если мы в кино или в театре, или в темном месте — мне моргнет, а маму — за колено. Ну и что? Ведь он же ее любит... Тогда он доволен: «уся семья у кучки» — и он, и мама, и колено, и дочурка... Да еще и кино...