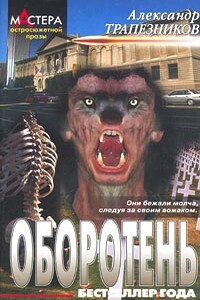Царские врата | страница 47
— Что же ты вчера на иеговистов так набросился? — насмешливо спросил Заболотный. — Они ведь тоже души заблудшие. Куда их деть?
— Есть по неразумию враги, с которыми можно работать, а есть исчадия, на которых слово Божье не действует, — ответил Павел. — Иосиф Волоцкий сказал, что если услышишь где, как кто-то хулит имя Господа, подойди и не бойся осквернить руку пощечиной. Ударь, вырви у него жало. Если мы не станем бороться, то нас сомнут. Церковь и так шатается, может рухнуть в одночасье, об этом предупреждают мудрые провидцы-священники. Сейчас все силы по всему миру брошены на разрушение Церкви. Изнутри берут, как черви в человеческом организме. Как раковая опухоль разъедает. Но даже если хоть семь приходов в России останется — она устоит.
— Один из них — твоя часовенка? — спросил Заболотный.
— Как Богу будет угодно, — отозвался Павел. — Но ты меня не язви, я серьезно. И ведь не для себя же стараюсь, для людей.
Мы уже подошли к швейному цеху Игнатова, а разговор продолжился там, в конторе, пока ждали хозяина. Павел в этот день был непривычно разговорчив, излагал свое мысли четко и ясно, а Заболотный всё пытал его по той или другой проблеме. Он действовал как искуситель или рыболов: забрасывал крючок и ждал: клюнет? Радовался, когда Павел заглатывал наживку.
Вскоре пришел Игнатов, уселся за свой стол, а через некоторое время подключился к беседе. Это был крупный, спортивного вида мужчина, лет сорока пяти. Бывший гандболист, военный инженер, полковник в отставке, он еще в середине девяностых стал предпринимателем, а дело его шли то в гору, то висели на волоске. Но Игнатов умудрялся, уже почти падая вниз, вновь подниматься. «Стойкий оловянный солдатик», — называли его в определенных кругах. Он помогал патриотическим изданиям, жертвовал церкви деньги, но порою и на него накатывала депрессия. Тогда он передавал руль управления всеми делами супруге, прихожанке Елоховского храма, а сам уезжал на свою загородную дачу, затворялся там от всего мира и — по русской традиции — пил. Иной раз месяца три- четыре. Потом вновь возрождался к работе, как Феникс из пепла. Сейчас у него было какое-то потерянное отсутствующее лицо, но вскоре, слушая Павла, глаза Игнатова разгорелись.
— Сколько же можно бороться? — сказал он вдруг. — Вся история России — борьба. Нет чтобы как в какой-нибудь Швейцарии.
— А нас, русских, и обвиняют в том, что мы никак не успокоимся, — согласился Павел. — Всё время воюем, открываем всё новых и новых врагов. Нас призывают слиться с мировым сообществом, стать «общечеловеками», но с противоположной Достоевскому идеей — быть «людьми мира», а не русскими. Вернее, русскими на десятом плане, сначала, все же, «человек мира». Мы для них и схизматики, и ортодоксы, и мракобесы, и антисемиты, и красно-коричневые, и противники общемировых тенденций единой здравомыслящей власти счастливого человечества — вот что нам ставят в вину! У нас, дескать, никогда не было свободы, мы — рабы. А что есть истинная свобода? Где она? Я скажу: в прощении грехов, потому что как бы ты ни нагрешил, сколько бы ни убивал, ни распутничал, ни клеветал, они пред Богом, что капля в море. И когда ты получаешь от Него прощение, то в душе твоей и радость, и веселие, и благодать Святого Духа — и вот она, та свобода, о которой мы все время спорим. А что касается «человечества», то это оно не хочет мира, а не русские. Как будто вообще, мир со злом допустим!