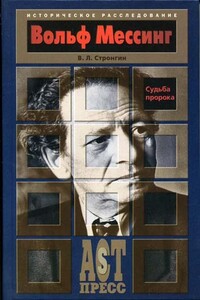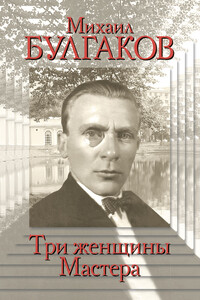Любовь Полищук. Безумство храброй | страница 77
Настольной книгой Любы уже больше года стал роман Булгакова «Мастер и Маргарита».
Когда Михаил Левитин говорил об артистах, которых он желает занять в спектакле, то первым делом посмотрел на Любу, потом его взгляд переметнулся на жену, молодую, красивую, но еще неопытную актрису, остановился на ней, а затем прочно обосновался на Любе. Михаил говорил, что актеры в этом спектакле помимо актерского опыта должны обладать и жизненным. Люба для этой роли подходила больше других артисток театра, по которым режиссер пробежал взглядом, и вновь завис на Любе. Хотя распределения ролей не было и, по всей видимости, Левитин еще не написал сценарий, лишь в уме намечал его фрагменты, Люба решила, что роль Маргариты будет безоговорочно отдана ей. Внимательно прочитав роман, она поняла, что эта роль может стать переломной в ее творческой жизни, изменить к ней отношение режиссеров, которые забудут про ее клоунесские и танцевальные наклонности и станут видеть в ней только драматическую или трагикомическую актрису, что была ее заветной мечтой.
Перед сном, а иногда и рано проснувшись, она открывала книгу и переносилась в другой мир, где были Сергей, Алеша и Маша, но не в качестве нетерпеливых потребителей завтрака, а послушных и внимательных зрителей. «Я боролся с собою как безумный, – постепенно входила она в роль. – У меня хватило сил добраться до печки и разжечь в ней дрова. Когда они затрещали и дверца застучала, мне как будто стало легче. Я кинулся в переднюю и там зажег свет, нашел бутылку белого вина, откупорил ее и стал пить вино из горлышка. От этого страх притупился несколько – настолько, по крайней мере, что я не побежал к застройщику и вернулся к печке. Я открыл дверцу, так что жар начал мне обжигать лицо и руки, я шептал:
– Догадайся, что со мной случилась беда. Приди! Приди! Приди!
Но никто не шел. В печке ревел огонь, в окна хлестал дождь. Тогда случилось последнее. Я вынул из стола тяжелые списки романа и черновые тетради и начал их жечь. Это страшно трудно делать, потому что исписанная бумага горит неохотно. Ломая ногти, я раздирал тетради, стоймя вкладывал их между поленьями и кочергой трепал листы. Пепел по временам одолевал меня, тушил пламя, но я боролся с ним, и роман, упорно сопротивляясь, все же погибал.
Знакомые слова мелькали передо мной, желтизна неудержимо поднималась сверху вниз по страницам, но слова все-таки проступали и на ней. Они пропадали лишь тогда, когда чернела бумага, и я кочергой яростно добивал их.