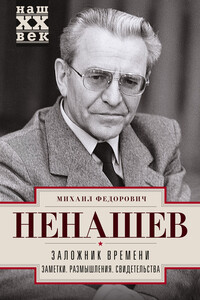Иллюзии свободы. Российские СМИ в эпоху перемен (1985-2009) | страница 44
После XIX конференции КПСС уже для многих стало заметно, что партия серьезно утратила инициативу и не торопится ее проявить. И дело здесь было не только в персональной ответственности лидеров партии, как об этом весьма резко говорилось на XXVIII съезде. Никак не снимая вины с членов ЦК, надо видеть главное, а это главное состоит в том, что партия со времени Сталина строилась и организовывалась для послушания, для подчинения, для ожидания команд и указаний сверху, которые она продолжает ждать и сегодня.
На кризис партии, несомненно, повлияли многолетнее отчуждение коммунистов от участия в формировании и осуществлении ее политики, разрыв связей партийного центра и партийной периферии. Разрыв этот был неизбежен также и в связи с неспособностью существующего партийного аппарата работать самостоятельно, без управляющих партийных вожжей центра. Мы сейчас особенно много сетуем по поводу бедности в лидерах, в партийных кадрах, способных работать по-новому. Между тем сетовать, в общем-то, не на что. Отсутствие талантливых инициативных партийных работников, настоящих лидеров неизбежно, ибо время застоя, время послушания и бездумия было одновременно временем торжества посредственности сверху донизу во всей партийной иерархии.
О какой талантливой поросли партийных кадров, о каких новых лидерах можно сейчас говорить, если у самой вершины партийной власти стояла посредственность? В это время среди партийных работников на местах, знаю по собственному опыту, превыше всего ценилось послушание, и самую большую настороженность и нетерпимость вызывали люди с инициативой, с собственным мнением. Можно было бы много рассказать о нелепых и смехотворных, достойных пера Салтыкова-Щедрина ритуалах и порядке следования одного за другим, о чванливых ритуалах сидения в президиумах первого, второго и других секретарей обкомов. Эти ритуалы и традиции партийного чинопочитания не так уж безобидны, ибо были теми самыми кандалами для думающих работников и опорой для чванливых партийных иерархов. Говорю об этом с горечью потому, что, может быть, самая большая вина СМИ и их служителей, к коим принадлежу и сам, состояла в том, что не нашлось у них ни сил, ни способностей, ни людей, которые могли бы уже в первые годы перестройки в открытую и прямо сказать людям всю правду о партии, о ее болезнях и бедах.
Признаюсь, что, как и многие другие, деятельность которых была связана с работой СМИ, я чувствовал себя на XXVIII съезде КПСС весьма неуютно. Неуютность была неприятна, но понятна, ведь в основе ее лежала и собственная вина за состояние идеологической работы, а она оказалась на XXVIII съезде объектом беспощадной критики. Такой беспощадной, что, думаю, ей даже часто не хватало объективности, ибо по сути сама она, эта беспощадная критика, и ее возможность были живым проявлением именно той гласности, того свободомыслия, которые явились и несомненным завоеванием, и прямым достоянием современного этапа идеологической деятельности партии. И в этом смысле, может быть, идеологическая работа партии если и не заслужила доброго слова (на доброе слово было надеяться трудно, тем более в пору всеобщего ожесточения), то хотя бы могла претендовать на объективное признание того, что действительно было сделано за годы перестройки.