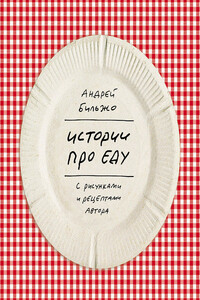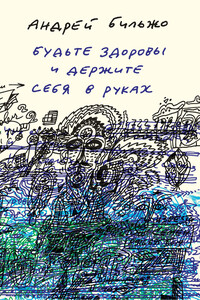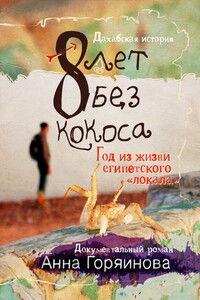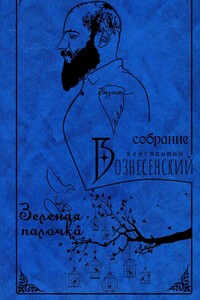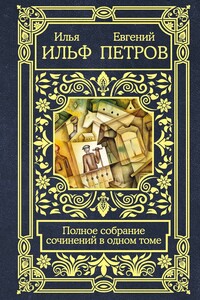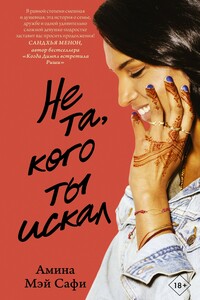Заметки пассажира. 24 вагона с комментариями и рисунками автора | страница 21
Да, чуть не забыл… В чемоданах я вез вещи, купленные в магазине «Альбатрос». Купленные на боны. Это как «Березка» и сертификаты, но только для моряков. В чемодане лежали: детский синтетический костюмчик голубого цвета (передан сотруднице для ее сына через два месяца после того, как мой сын из него вырос); шерстяная женская кофта для жены с расклешенными рукавами (проеденная молью, лежит до сих пор на даче); дикого канареечного цвета рубашка, ни разу мной не надетая и сданная впоследствии в комиссионный (деньги пропиты); иностранные конфеты, сигареты «Мальборо», виски и прочая, тогда завораживающая формой, а сегодня не удивляющая даже содержанием глупость. Выпито, съедено, выкурено.
Поезд Севастополь – Москва медленно подошел к заснеженному перрону. Там стояла моя жена и мой папа, который держал в руках тулуп, переделанный в дубленку. Кстати, портной, делавший эту работу, был известен тогда на всю Москву. Разбогатев, он поехал как-то отдыхать в Венгрию и утонул в озере Балатон. А жил он в Москве около одноименного магазина. Магазина «Балатон».
Я вышел из поезда. По щекам моим текли слезы. От зубной боли они были или нет – я тогда не мог разобрать.
Вагон 13. Товарный состав
Родители моей жены жили в Архангельске. В Москву они приезжали раза три-четыре в год. На Ярославском вокзале всегда встречал их я.
Встреча носила чисто деловой характер. Я заходил в плацкартный вагон поезда Архангельск – Москва, дождавшись, когда выйдут практически все пассажиры. Находил нужный отсек с родителями жены и вытаскивал откуда только возможно было неподъемные сумки со связанными тряпочками ручками; тяжелые бесформенные баулы, перевязанные веревками; коробки с самодельными приспособлениями для переноса. На вид небольшие, но по тяжести – свинцовые. Все это перлось до стоянки такси с многочисленными остановками и непроизносимыми, да и непечатаемыми выражениями. Потом весь этот скарб стаскивался в маленькую шестиметровую кухню. Ну а дальше… Дальше несгибающимися руками доставались многочисленные, тщательно забинтованные и переложенные старыми газетами «Правда Севера» трехлитровые банки и бутылки. Сердце оттаивало, и душа расправлялась. Вот красная с бело-зелеными боками, практически никогда не портящаяся брусника; вот бордовая крупная клюква; вот янтарная, мягкая, нежная, привередливая морошка; вот герой-самогон, настоянный на том и на сем и чистейший; вот банки с белыми прессованными солеными сопливыми груздями. («Белый» – это сорт. По цвету они были синюшными.) А вот жирный, пахучий палтус и соленая треска. Ее потом вымочат в молоке и будут запекать на противне с картошкой и сметаной. Латка – так называется это блюдо. И пошла, пошла первая рюмочка, уже из графинчика хрустального, а за ней тут же без промедления груздь, предварительно со звуком «чпок» оторванный от своих собратьев слизлявых и в сметану нырнувший. Нет, не могу дальше описывать все это. Делаю паузу. Должен махнуть. Махну и продолжу.